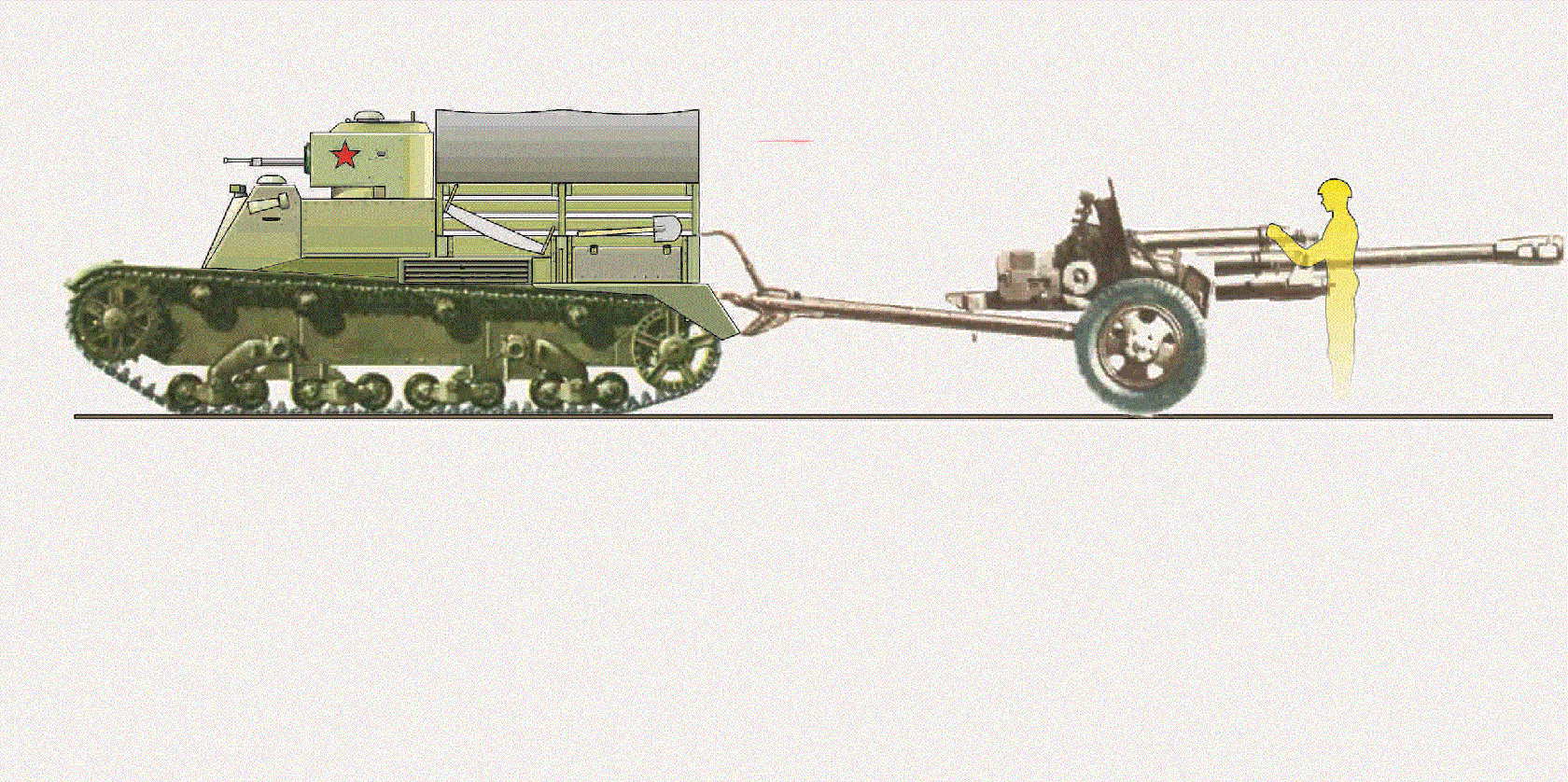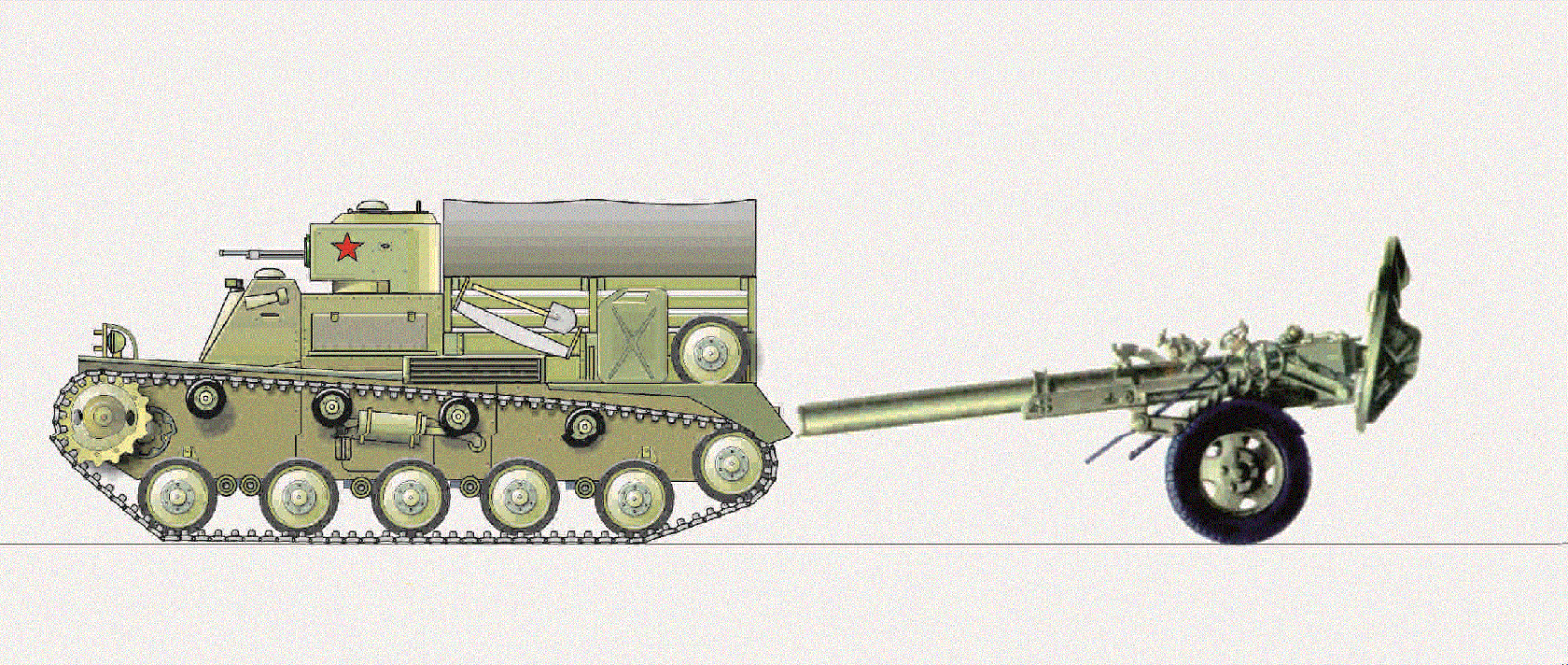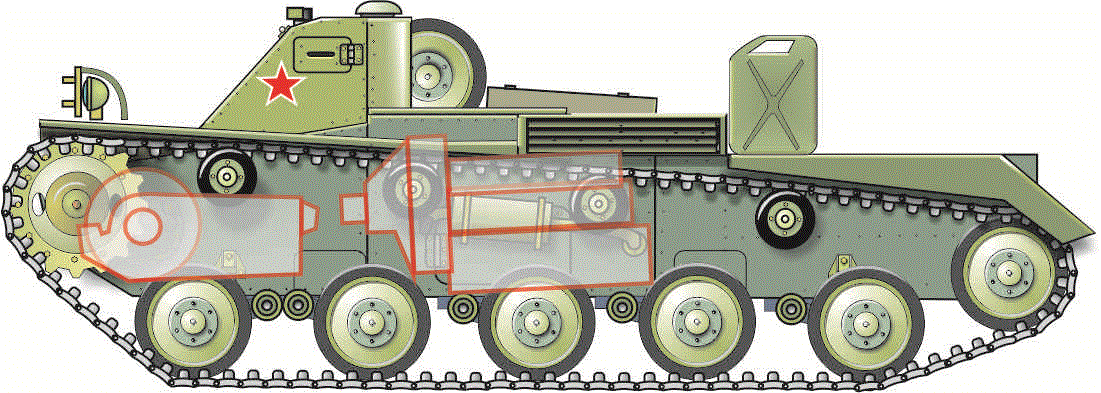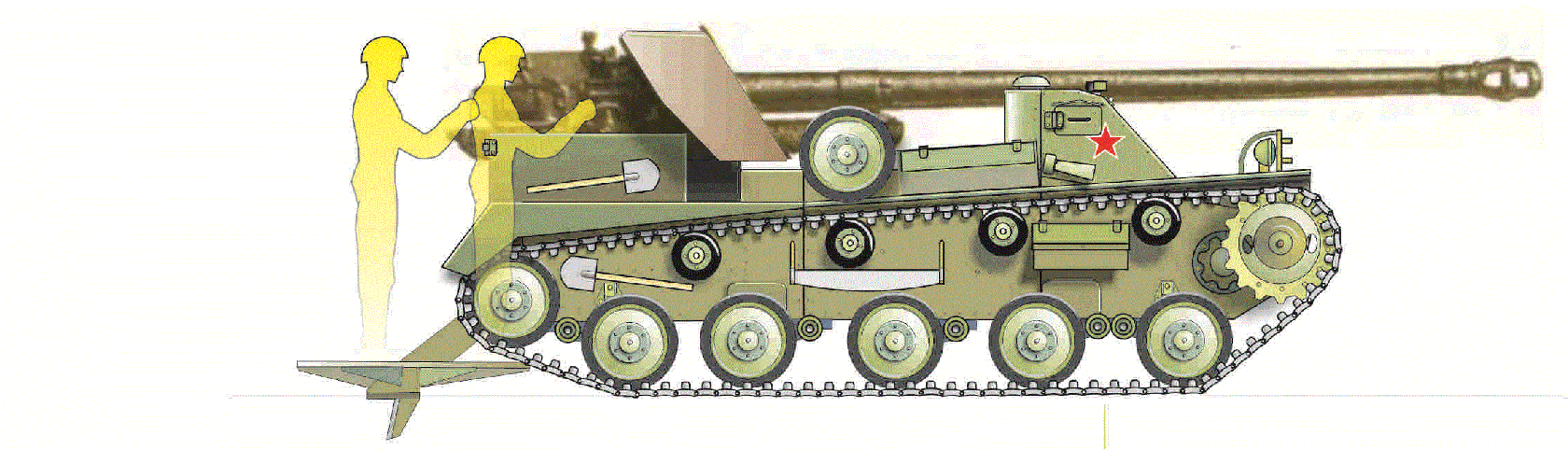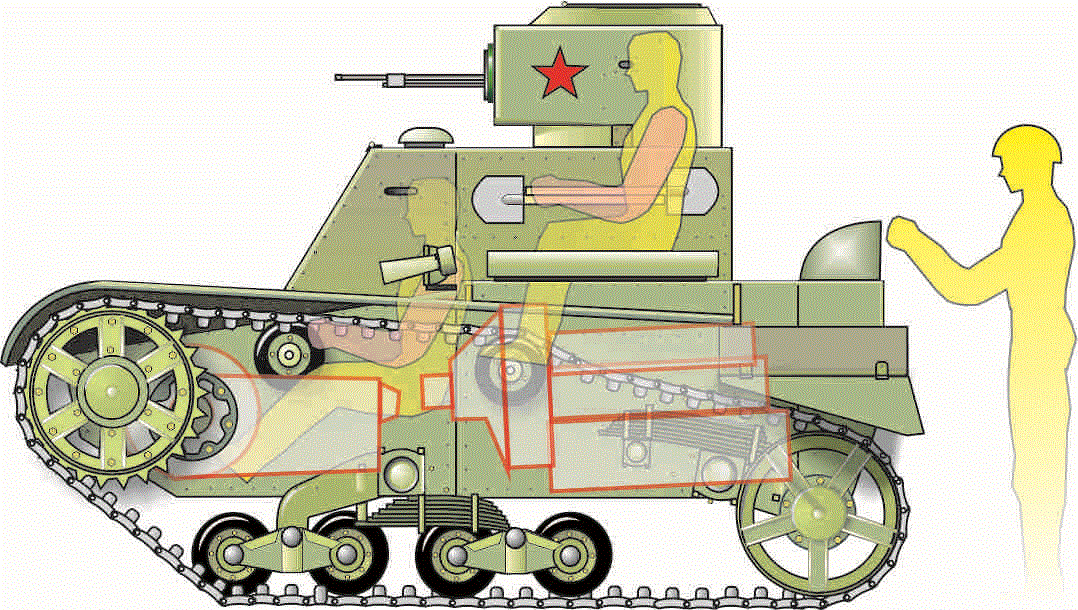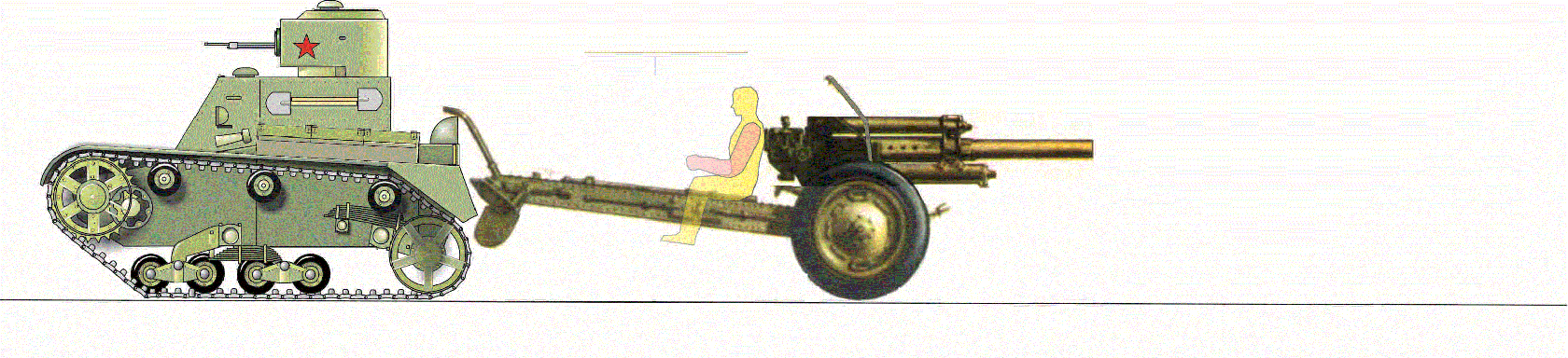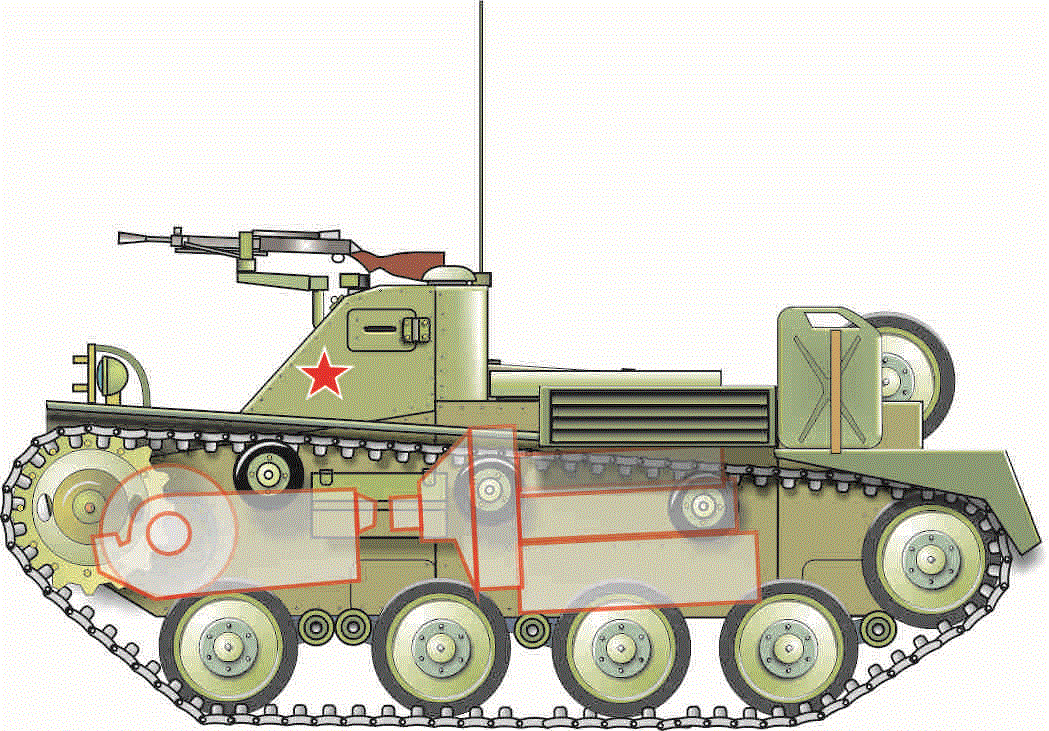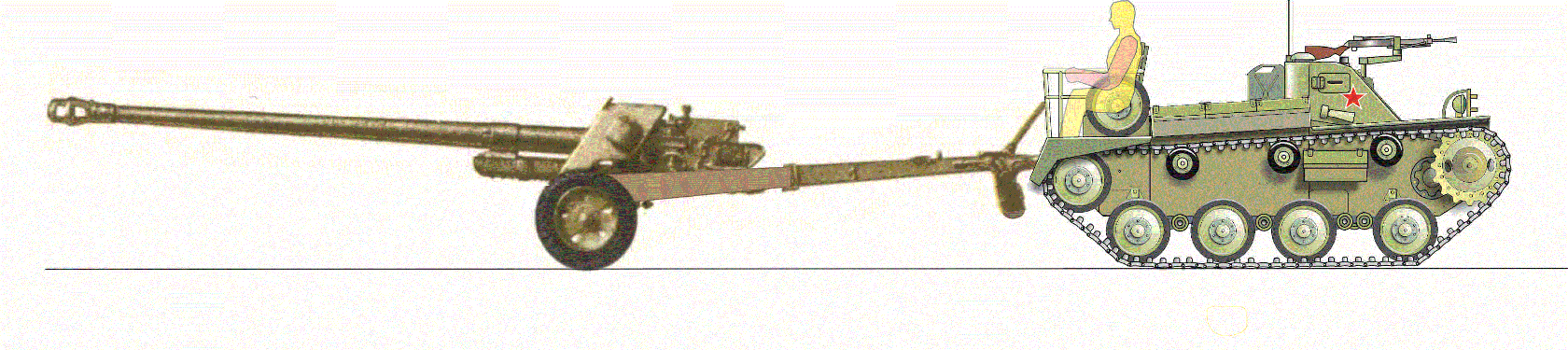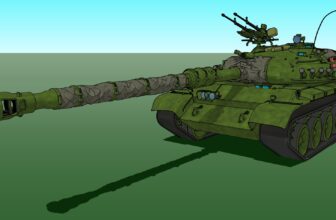Содержание:
ИСТОРИЯ
Ноябрь в 1941 году в Северной Манчжурии выдался холодным. Морозы по ночам доходили до минус тридцати. Нести караул в такую ночь было особенно трудно, холод пробирал до костей, сквозь любую одежду. Унтер Такехиро был опытный солдат, прошедший через много кампаний, в том числе и Халхин-Гол, но и ему в такую ночь было неуютно на НП. А причиной был нескончаемый гул, доносящийся из-за сопки за рекой, в такие ночи становившийся особенно отчетливым. В нем можно было различить взрыкивание танковых моторов, треск пулеметов и отрывистые хлопки орудийных выстрелов. Такехиро знал, что где-то далеко доблестные войска дружественной Германии, отчаянно атакуя позиции Красной армии, совершают величайшие победы. Но русские сопротивляются с отчаянием обреченных. Поэтому практические занятия в танковых школах не прекращались ни днем, ни ночью. Однажды, Такехиро увидел, как в полдень на вершину сопки выскочила тройка танков и развернутым строем двинулась, как показалось Такехиро, прямо на НП. Началась тихая паника. Забыв, что их от танков отделяет река, солдаты и офицеры готовы были уже бежать. На самом деле, танки даже не спустились с сопки, а постояв минуту, развернулись и скрылись в кустарнике.
А началось все в 1937 году, когда несколько сот китайских и корейских крестьян, спасаясь от ужасов японской оккупации, перешли границу СССР и попросили политического убежища. Беженцев приютили, расселив на территории Амурской области и Хабаровского края. Освоившись, китайцы организовали колхозы и занялись сельским хозяйством, выращивая всё, что могло расти. Колхоз был лучше, чем японская оккупация, и в последующие годы границу перешло порядка 200 тысяч человек. За крестьянами потянулись ремесленники, и на советском Дальнем Востоке возник 300-тысячный анклав новых советских граждан, с энтузиазмом изучавших «Историю ВКПБ». Осенью 1940-го года Дальневосточный обком партии отрапортовал о небывало высоких заготовках хлеба и мяса, полностью покрывавших собственные потребности, и даже организовали поставку продовольствия в Читинскую и Иркутскую области.
Параллельно процессу ассимиляции китайцев, на Дальнем Востоке происходил ещё один процесс. Сначала война в Испании, а затем все дальнейшие боевые действия показали абсолютную бесперспективность танков Т-26 и БТ. Поход 1939 года в Польшу продемонстрировал, что огромное количество танков, выпущенных до 1936 года, не имеют никакой боевой ценности, а представляют малосамоходный металлолом с высокой степенью износа материальной части.
С другой стороны, после подписания Пакта с Гитлером было понятно, что договор, в лучшем случае, оттянет начало большой войны в Европе на 3-4 года. В этих условиях очень не хотелось иметь ещё один очаг напряженности на Дальнем Востоке. Нужно было как-то отвадить Японию от участия в будущей войне с СССР. Решение было принято нетривиальное: сразу после окончания Зимней войны все танки Т-26, выпущенные до 1936 года, все БТ-2, БТ-5, и с ними Т-27, Т-37 были отправлены на Дальний Восток. Перегруппировка производилась без малейшей маскировки, совершенно открыто, практически демонстративно. По прибытии танки выстраивались в линейки вдоль железной дороги, занимая целые поля.
Японцы были немало встревожены, получив сведения о переброске в Забайкалье нескольких тысяч (!) танков. Особенно удручало численное сопоставление с собственными бронетанковыми силами и средствами ПТО. Не имея объективной информации о реальном техническом состоянии советских танков, штаб Квантунской армии пришел к неутешительному выводу: противостоять такой армаде нечем, русские могут смять любое сопротивление и дойти до Шанхая за 4-6 недель.
Нужно было как-то договариваться со вчерашним врагом. Дипломаты начали переговоры. Русские вели себя удивительно сговорчиво, моментально согласились вернуть часть танков обратно в Европу (разумеется, новые БТ-7 нужно было вывезти в Белоруссию и Прибалтику), и даже предложили японцам концессию на разработку нефти на Северном Сахалине. Будучи в тисках топливного кризиса, японцы ухватились за предложение. Русские попросили в уплату четверть добываемой нефти, три танкера и нефтеперерабатывающий завод. Поначалу японцы сомневались, опасаясь, что таким образом будут снабжать бензином советские танковые корпуса вторжения. Но русские убедили, что на самом деле все будет наоборот, японцы всегда смогут остановить танки, прекратив поставки нефти. А нефтеперерабатывающий завод предложили установить под Владивостоком на берегу, так, чтобы его можно было легко накрыть огнем корабельной артиллерии с моря.
Аргументация была убедительная, и японцы согласились. Так к маю 1941 года на Дальнем Востоке была снята проблема со всеми видами жидкого топлива. Более того, даже удавалось продавать излишки мазута тем же японцам. Вроде все были довольны.
ТЫЛ
Передислоцированные части по плану должны были стать танковыми школами. Но тут была проблема: из многих тысяч танков реально ездить/стрелять могли лишь несколько сот. Остальные танки требовали серьезного капитального ремонта. Наладить его стало основной задачей для всего Дальневосточного военного округа. К лету 1940 года задача была решена с максимально возможной эффективностью.
Выглядело это так: из шеренги, тягачом выдергивали очередной труп танка и тащили на ремзавод. Ремзавод представлял из себя несколько цехов-бараков, часто деревянных, соединенных между собой узкоколейкой, причем рельсы проходили через цех насквозь. Первым делом к днищу танка приваривали 4 колеса от вагонеток и ставили на рельсовый путь. Лебедками, через блоки, снимали башни, вытаскивали двигатели, трансмиссию, снимали гусеницы и катки. Башни с вооружением зачастую использовали для устройства ДОТ-ов на приграничных УР-ах. Потихоньку передвигаясь по цеху, танк «раздевали» до корпуса. Демонтированные детали складывали в большие деревянные ящики и отправляли в агрегатные цеха: моторный, трансмиссионный, ходовой части, оружейный, электрооборудования, аккумуляторный. В цехах агрегаты также разбирали, детали «вываривались» в чанах с керосином, очищались, разбраковывались на исправные, требующие восстановления и металлолом. Исправные детали поступали на импровизированный сборочный конвейер. Корпус после разборки очищали пескоструйкой от краски и ржавчины. После очистки бронекорпус проверялся на предмет наличия трещин, деформаций и пр. Исправный бронекорпус поступал в сборочный цех. Из агрегатных цехов на сборочный конвейер поступали вновь собранные моторы, КПП, подвеска, гусеницы и пр. Собранный танк зачастую был даже лучше, чем заводской, потому что работали в основном сами экипажи танков. Было организовано несколько заводов, причем с раздельной специализацией по Т-26 и БТ. Благодаря конвейерному методу удалось решить проблему нехватки квалифицированных кадров и добиться высокой производительности. Капитальный ремонт танка занимал в среднем 6-7 суток при работе в одну смену. При трехсменной работе возможно было отремонтировать танк за 2-3 суток.
Главной проблемой в ремонте стало восстановление изношенных деталей. Из трех-четырех танков еле-еле удавалось собрать один. Не хватало материалов, станков, инструментов, рабочих рук. И тут неожиданно на помощь пришли китайцы. Осенью 1940-го года на заводах появились артели из китайских крестьян. За символическую плату (в основном керосином) китайцы взяли на себя всю грязную и тяжелую работу по разборке танков.
Следом потянулись и китайские ремесленники. Не имея станков, примитивными инструментами, китайские кустари прямо в своих фанзах восстанавливали изношенные валы, гусеничные траки. Вручную, напильниками и ножовками выпиливали зубья шестерен трансмиссии после наплавки, отливали мелкие детали из низкоуглеродистой стали и алюминия, переплавляли аккумуляторные пластины. Со временем научились восстанавливать изоляторы свечей зажигания (тысячелетние традиции изготовления фарфора, это вам не фунт изюму), изготавливать на кустарных станках медную проволоку и мотать обмотки генераторов и стартеров. Обыкновенно выглядело это так: к заводу приезжали китайские телеги, и начинался обмен восстановленных деталей на изношенные. Производился жесткий входной контроль качества, некачественные детали возвращались на переделку. Потихоньку, не сразу, качество работ китайских артелей стало доходить до 90-95% приемки деталей с первого предъявления.
Производственная база позволила начать изготовление новых образцов бронетехники. Первыми ласточками в конце 1940 года стали БТР на базе Т-26 и многоцелевой тягач БТ-МТ из БТ-2. На этих машинах была отработана технология, после чего линейка машин была расширена. Следующим типом машин стали легкие противотанковые САУ на базе Т-26 и БТ-АТ. Машины изготавливались в ограниченном количестве летом-осенью 1941 года. До весны 1942 года было выпущено 200 шт. Т-26-57, 140 БТ-МТ с 57-мм пушкой и 100 БТ-МТ с 85-мм пушкой. Кроме этого, непосредственно в войсках было переоборудовано 46 тягачей БТ-МТ с установкой трофейной 88-мм пушки.
ВОЙНА
Советские танковые корпуса безвозвратно сгорели в огне блицкрига в течение июля-августа 41-го. Были потеряны все 3 тысячи танков, имевшиеся в Западной военном округе, с минимальным ущербом для противника. Казалось, что нет способа остановить наступления немецких танковых клиньев. Однако, в последнюю декаду августа на Смоленском направлении, с точки зрения немцев, случилось непонятное. Сначала танки, как обычно, проскочив в брешь между советскими дивизиями, выскочили на оперативный простор. Приближаясь к опушке леса, танки попали под огонь противотанковых орудий. Огонь был открыт с дистанции 1,5 км, при этом снаряды легко пробивали легкие Т-II практически навылет. Батарея сделала 10-12 выстрелов, было уничтожено 3 Т-II авангарда и командирская «трешка» . Каждый танк получил «контрольный» выстрел, вызвавший пожар или детонацию боезапаса. Через два часа танковый батальон атаковал опушку, но там никого не оказалось, батарея исчезла. Ещё через час движения, авангард опять налетел на батарею, замаскированную в кустах около дороги. И опять в течение 20 минут было безвозвратно уничтожено три танка, продвижение батальона остановлено до утра. Утром на позиции батареи обрушились Ю-87, их поддержали огнем артштурмы и батальон пошел в атаку. Но за ночь русские устроили огневой мешок, подтащив два десятка 45-мм орудий. Короткий бой, в результате чего все пушки были раздавлены гусеницами, но и два танка получили повреждения средней тяжести. Лишь только через день батальон смог продолжить движение, но к вечеру был опять встречен таинственной русской батареей. Сценарий повторился, немцы, потеряв один танк, отступили, вызвали пикировщиков. Через час, перед самым закатом, Штукасы перепахали позицию батареи. Утром, обойдя батарею, на её позицию выскочила рота мотоциклистов. Увы, между воронок ничего и никого, пара стреляных гильз, да следы танковых гусениц.
После этого началась настоящая охота за батареей. Но успех был на её стороне, самоходки (а это были Т-26-57) открывали беглый огонь с 1,5 км, находясь вне досягаемости эффективного ответного огня танковых орудий, сделав 10-15 выстрелов, батарея немедленно уходила с позиции. Весь бой занимал от 20 до 40 минут. За это время немцы не успевали ни навести гаубицы, ни вызвать авиацию. Попытки выманить русских в контратаку не приводили к успеху, в контратаках самоходки не участвовали. При малейшей стабилизации фронта самоходки отходили во второй эшелон, чтобы в случае немецкого прорыва снова оказаться перед острием немецкого клина, при этом показывая небывалую до этого мобильность и выучку. Низкий силуэт и малые размеры, мощное орудие позволяли эффективно бороться с любыми танками. Целую неделю батарея не давала немецким танкистам развить наступление, каждый раз оказываясь на острие удара. И только удачная атака штурмовиков Не-126, поймавших колонну на переправе через небольшую речку, положила конец кошмару.
Через два дня с такой же тактикой столкнулись под Киевом. Но в этом случае огонь открывали с ещё большей дистанции, километров с двух, а орудия были калибром 85 мм. От таких «плюх» не спасала даже броня «четверок». Количество батарей росло с каждым днем, и вскоре немецким танкистам стало реально худо. К середине сентября немецкий генштаб вынужден был признать, что сроки наступления на Киев и Москву безвозвратно сорваны, окружения главных частей РККА добиться не удалось. В течение последующих 30 дней блицкриг протекал вяло. Да, немцы продолжали наступать, перемалывая все новые и новые дивизии Красной Армии, но если в июне/июле за сутки вермахту удавалось прохватить до 100 километров, то теперь в день с боями продвигались на 5-7 километров. По сути, войска топтались на месте, прорывы фронта парировались русскими весьма оперативно, потом наносились контрудары, на отражение которых уходило много времени и средств. А к началу октября начались дожди, рокады развезло, авиация подприсела на раскисших аэродромах, наступление и вовсе захлебнулось на подступах к Смоленску и перед Днепром.
ЖЕЛЕЗО
Первой ласточкой дальневосточников стал БТР на базе Т-26. Машина получилась неплохая, но перетяжеленная, с полной нагрузкой движение на высшей передаче могло происходить только на хорошей дороге, малейший подъем требовал перехода на низшую передачу. Использовать машину в качестве арттягача было невозможно. После выпуска 400 шт. производство БТРов прекратили. Вместо него на конвейер встал артиллерийский тягач, унаследовавший технические решения БТРа, но весом всего 8 тонн и на стандартном танковом шасси. Получившийся тягач способен был перевезти расчет орудия, и полтонны боезапаса, и буксировать прицепы весом до 1,5 тонн по грунту.
Востребованность в новой машине была колоссальная, артиллерийские части буквально бомбардировали ГАБТУ запросами тягачей. Из-за чего основная часть танков Т-26 стала переделываться в средний арттягач (САТ). За период до 1945 года было изготовлено более тысячи тягачей. К 1943 году производство тягачей столкнулось с проблемой отсутствия деталей ходовой части. Интенсивная учеба танкистов в дальневосточных школах привела к дефициту гусениц и ходовых катков. Выход был найден в использовании деталей и гусениц от легкого танка Т-70 (с 1944 г. от СУ-76). Торсионы монтировались под днищем, также были применены ведущие колеса.
Уменьшение ведущего колеса несколько снизило максимальную скорость по шоссе, но в целом никак не отразилось на подвижности и надежности машины. Дальнейшее боевое применение показало бесполезность пулеметной башни на арттягаче. Эпизодическое применение не оправдывало лишний вес и трудозатраты. В конце 1943 года тягач переработали. Башню с пулеметом убрали, командирское место устроили рядом с водителем или вовсе убрали, сделав тягач одноместным универсальным шасси.
Шасси можно было оснащать различным оборудованием, превращать в топливозаправщик, транспортер боеприпасов, ремонтную машину и пр. Интенсивно проводились эксперименты по установке различного вооружения. Так, в конце 1944 года была осуществлена установка на шасси 100-мм полевой пушки БС-3.
Успех САТа подтолкнул разработчиков на решение проблемы буксировки основы артиллерии РККА – 122-мм гаубицы М-30. Существующий тягач утянуть 2,5-тонную гаубицу не мог, 90-сильного мотора явно не хватало. Но взять другой было негде, попытки форсировки двигателя закончились неудачей, приращение мощности резко сокращало ресурс. Тогда было решено радикально снизить вес тягача, отрезав все, что только можно.
Несмотря на странный вид, машина показала хорошую маневренность и большое тяговое усилие на крюке. Теперь гаубица могла буксироваться новой машиной по грунтовой дороге на высшей передаче.
В 1943 году тягач также получил новую ходовую от Т-70 и новую двухместную рубку. Часть расчета (4 чел.) могла размещаться на открытой скамейке в задней части тягача. Было изготовлено около 800 шт.