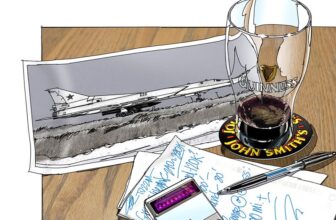Вопрос скрытного развертывания боевых надводных кораблей в мировом океане — это вопрос, который регулярно вызывает бурные споры в военно-историческом сообществе) К счастью, уровень дискуссии за последние годы значительно вырос, и наивные возражения «да как же можно спрятать авианосец, он же огромный» по большей части ушли в прошлое, сменившись значительно более компетентной аргументацией. Но споры по вопросу по-прежнему ведутся очень горячие.
И поэтому я решил перевести фрагмент мемуаров британского адмирала сэра Джона Фостера «Сэнди» Вудварда (1932-2013), командира авианосного оперативного соединения 317.8 во время Фолклендской Войны. Адмирал Вудвард считается одним из ключевых персоналий кампании 1982 года, разработчиком стратегического расписания кампании. Отрывок из его книги, «One Hundred Days: Memoirs of the Falklands Battle Group Commander» я и решил здесь привести.
Конкретно этот отрывок не имеет прямого отношения к Фолклендской войне и относится к более раннему (мирному) периоду — совместным маневрам британского и американского флотов в Индийском Океане летом 1981 года. Только что произведенный в контр-адмиралы, Вудвард командовал небольшим противолодочным соединением, состоявшим из старого эсминца HMS «Glamorgan» (тип «Каунти») и трех противолодочных фрегатов (предположительно типа «Ротсэй», так как они не несли противокорабельного вооружения).
На учениях ему противостояло полноценное авианосное соединение американского флота во главе с ударным авианосцем USS «Coral Sea» (тип «Мидуэй») и включавшее множество кораблей эскорта и десятки боевых самолетов. Соотношение сил было критически не в пользу англичан. И тем не менее, Сэнди Вудварду удалось то, чем могли похвастаться лишь немногие командиры надводных кораблей в истории — приблизиться на дистанцию удара и «потопить» условной атакой американский авианосец…
«Сердцем американской боевой группы был ударный авианосец USS «Корал Си». Он нёс около восьмидесяти самолетов, примерно вдвое больше, чем мог бы корабль вроде нашего «Гермеса». Эта впечатляющая воздушная армада на плаву находилась под командованием контр-адмирала Тома Брауна, и я должен сказать, что его сфера ответственности в регионе была гораздо серьезнее моей.
Положение дел в Персидском Заливе было в то время очень взрывоопасным; американские заложники все еще пребывали в заточении на Ближнем Востоке, и Иран вел поистине ужасную войну с соседним Ираком. Внимание адмирала Брауна было полностью сосредоточено на проблемах реального мира и необходимости быть готовым к любым неприятностям, в какой бы форме они на него ни свалились бы. И все же он согласился потратить два-три дня на совместные учения с нами, и любезно разрешил мне спланировать два 24-часовых упражнения.
Я четко представлял себе, что хочу попробовать: американская боевая группа, со всеми ее самолетами и кораблями сопровождения, должна была развернуться в открытом море. Их задачей было помешать моим силам просочиться сквозь их оборонительный периметр и «потопить» авианосец до того, как будут «потоплены» все мои корабли. Адмиралу Брауну очень нравился этот план учений — и будь вы на его месте, он бы вам тоже наверняка понравился. Он мог обнаружить любой неприятельский надводный корабль на удалении по крайней мере в двести миль (прим. перев. — около 370 км), отслеживать так долго, как ему будет угодно, и нанести удар с безопасного удаления любым из своих шести ракетоносных самолетов. И это был только внешний слой защиты. По любым военным стандартам того времени, его оборону можно было считать почти непроницаемой.
ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА: насколько мне удалось разобраться, USS «Coral Sea» в тот момент действительно нес только одну ракетоносную эскадрилью — двенадцать тяжелых штурмовиков A-6E «Intruder» — оснащенных ракетами AGM-84 «Harpoon». Причем половину этой эскадрильи составляли безоружные самолеты-заправщики KA-6D. Остальную ударную группу составляли легкие штурмовики A-7 «Corsair II», не оснащенные противокорабельными ракетами.
В моем же распоряжении находились «Гламорган» и три фрегата, плюс три судна Вспомогательного Королевского Флота — два танкера и судно снабжения. Все мои фрегаты были чисто противолодочными единицами, не способными нанести серьезный урон авианосцу кроме как разве что тараном. Только «Гламорган», с его четырьмя противокорабельными ракетами «Exocet» дальностью в двадцать миль (прим. перев. — около 37 км) мог причинить значимые повреждения «Корал Си», и адмирал Браун знал об этом. Таким образом, мой флагманский корабль был для него единственной угрозой; единственной реальной целью.
Мы должны были начать учения ровно в двенадцать дня, и не ближе чем в двухстах милях от американского авианосца. Он находился в самой середине широкой полосы чистого синего моря, под ослепительно-синим чистым небом — дальность эффективного обзора составляла двести пятьдесят миль. Адмирал Браун находился, если можно так сказать, в центре хорошо защищенной и идеально просматриваемой зоны зоны отчуждения, а у меня не было ни единого облачка, чтобы под ним спрятаться, я уж не говорю о тумане, дожде или шторме. Никакого укрытия. Совершенно негде спрятаться. И разумеется, у меня не было никакой воздушной поддержки.
Я приказал моим кораблям разделиться и к двенадцати часам занять позиции вокруг двухсотмильного периметра, и как только начнутся учения, мчаться к центру так быстро, как только можно — своего рода морской аналог «атаки легкой бригады» с разных направлений. До начала учений оставалось еще около сорока минут, и разумеется в небе над нами появился американский истребитель, идентифицировал нас и помчался домой сообщить своему начальству где мы, что мы, и куда мы движемся. Мы не могли «сбить» его — учения ведь еще не начались! Но все выглядело так, что мы проиграли этот раунд еще до его начала. Американцы наверняка нанесли бы решительный воздушный удар по «Гламоргану» сразу же, как только сумели бы его подготовить.
И все же мы должны были продолжать игру, и теперь-то нам всяко не оставалось ничего, кроме как выложиться по-максимуму. Поэтому мы свернули на восток и на полном ходу понеслись вокруг американского двухсотмильного периметра. Три часа спустя, мы засекли множество американских самолетов примерно в сотне миль к западу от нас, возле нашей прежней позиции. Они, разумеется, ничего там не нашли, и вскоре убрались восвояси. Тем не менее, на протяжении всего дня, они методично нашли и «потопили» мои корабли. Все, кроме одного: они так и не сумели снова отыскать «Гламорган», единственный корабль, который они реально должны были остановить, единственный, который мог потопить авианосец. Мы были где-то рядом, и они не могли найти нас.
Наконец американцы «потопили» мой последний фрегат, и, когда солнце зашло над Аравийским Морем и опустилась ночь, «Гламорган», наконец, повернул внутрь двухсотмильной зоны отчуждения. Сумерки сменились тьмой, и я отдал приказ включить все огни на корабле, плюс вывесить так много дополнительных ламп, как только сумеем. Я хотел, чтобы с расстояния мой корабль выглядел точно как ярко освещенный круизный лайнер — и глядя с мостика, мы сильно напоминали плавучую рождественскую елку.
ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА: интересно отметить, что эсминцы типа «Каунти» — к которым относился «Гламорган» — действительно по силуэту смахивали на пассажирские корабли. Длинная сплошная надстройка, низкие мачты и короткие скошенные трубы вполне себе позволяли ночью принять ярко освещенный «Гламорган» за круизный лайнер:
Мы мчались сквозь напряженную ночь, двигаясь навстречу «Корал Си», непрерывно вслушиваясь в частоты Международного Голосового радио. Как и ожидалось, капитан одного из американских эсминцев вскоре вышел в эфир, потребовав, чтобы мы идентифицировали себя. Наш собственный бортовой Питер Селлерс (прим. перев. — имеется в виду известный британский комедийный актер), заранее подготовивший роль, ответил на своем лучшем англо-индусском акценте: «Это пассажирский лайнер «Равальпинди», следуем из Бомбея в Дубай. Доброй ночи и удачи всем вам!» Откровенно говоря, его акцент звучал точно как акцент официанта в дешевом ресторанчике индийской кухни. Но этого хватило. Американцы, действовавшие по правилам «ограниченной войны», удовлетворились нашим ответом и пропустили нас. Драгоценные минуты утекали одна за другой, пока мы не оказались ровно в одиннадцати милях от авианосца, и СУО наших «Экосетов» взяла его на сопровождение. Американцы все еще думали, что наш ярко освещенный корабль, это безобидный «Равальпинди», идущий по своим невинным делам.
Сомнения, впрочем, начали постепенно закрадываться в их умы. И первые признаки беспокойства проявились, когда корабли охранения авианосца начали нервничать, и два их больших эсминца умудрились «открыть огонь» друг по другу прямо через наши головы. Великолепный скандал по радио было искренним наслаждением слушать. И затем один из моих офицеров вышел в эфир и спокойно вызвал авианосец, чтобы передать Тому Брауну неприятную новость: мы находились на позиции, с которой могли отправить его авианосец на дно Индийского Океана, и он ничего уже не мог с этим поделать.
«Мы выпустили четыре «Экосета» двадцать секунд назад», добавил он для пущего удовольствия, зная, что это оставляет американцам примерно сорок пять секунд, чтобы упасть на палубу и закрыть голову руками. Больше они ничего не могли сделать. У «Корал Си» не было времени, чтобы даже запустить дипольные отражатели — и американцы знали также хорошо, как и мы, что авианосец, по сути дела, выведен из строя. Они «потеряли» свой критически важный корабль и с ним всю их авиацию.
ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА: четыре «Экосета» модели MM38 с 165-кг фугасно-кумулятивными боевыми частями не так чтобы особо мощные по меркам противокорабельных ракет — но «Корал Си» был полностью не готов к атаке. Противопожарные меры не были приняты, коммуникационные люки в переборках не были задраены, команды борьбы за живучесть не были подняты по немедленной готовности. Внезапные попадания противокорабельных ракет «Гламоргана» (будь они реальными, а не условными) нанесли бы кораблю тяжелые повреждения и гарантированно сделали бы его небоеспособным на продолжительное время.
Таким образом, адмирал Сэнди Вудвард сумел — используя только три противолодочных фрегата и старый эсминец, несущий только ракетное оружие средней дальности — успешно прорвать оборону американского авианосного соединения и нанести «удар» по авианосцу. Вудвард признавал, что, разумеется, он оперировал в «несправедливой» обстановке; его экипажи знали, что на самом деле им ничего не угрожает. И тем не менее, результат был вполне показателен; устаревший надводный корабль сумел подобраться практически вплотную к авианосцу, который ожидал такой попытки и активно искал эсминец всеми своими средствами, включая корабельные радары и самолеты ДРЛО.
Итак, в чем же состояла тактика Сэнди Вудварда?
* Он распределил свои фрегаты по периметру американской зоны отчуждения, с тем расчетом, чтобы единовременно устремиться к ее центру с разных направлений. Такая тактика не гарантировала прорыва — но во-первых она вынуждала американцев отвлекаться и тратить время на поиск каждого конкретного корабля, а во-вторых, она направляла поиски американцев в заведомо неправильном направлении.
* Флагманский же корабль, «Гламорган», вместо этого двинулся в обход зоны отчуждения, двигаясь вокруг ее периметра. Американцы, настроенные искать корабли, стремящиеся к центру зоны отчуждения, могли уделять значительно меньше внимания кораблям, движущимся вокруг нее — прозаически потому, что если первые представляли сиюминутную угрозу, то вторые могли подождать.
* Такое «снижение приоритетности» себя позволило «Гламоргану» не только компенсировать американское жульничество — пролет истребителя над кораблем до начала учений — но и избегать обнаружения до наступления ночи. Американцы, отыскавшие к этому моменту все три фрегата, продолжали искать «Гламорган» внутри оборонительного периметра, где его прозаически не было.
* После наступления темноты, «Гламорган» зажег все огни и постарался сделаться возможно более заметным. Это действие было настолько противоположно ожиданиям, что американцы просто не могли поверить, что это действительно не гражданский лайнер, случайно проходящий через зону маневров.
* Тщательно подготовленная «легенда» для радиоигры дополнительно усыпила подозрения американцев и помогла «Гламоргану» выиграть время для сближения с авианосцем на дистанцию пуска. Американцы, все еще ожидавшие появления «Гламоргана» снаружи периметра, очевидно начали нервничать и допускать ошибки — что только играло на руку британцам, так как сбивало оборону с толку.
Разумеется, что тактика Вудварда имела ситуативное применение. Как упоминает сам адмирал в своих мемуарах — на второй день учений (проводившихся уже по другому сценарию), американцы обратили особое внимание на то, чтобы как можно быстрее найти и уничтожить «Гламорган» (что им и удалось).
Отработанные на учениях навыки пригодились Вудварду буквально через полгода. Именно основываясь на этом опыте, адмирал приказал субмарине «Конкерор» торпедировать аргентинский крейсер «Генерал Бельграно», который находился на границе британской зоны отчуждения и при этом двигался вдоль периметра зоны. Адмирал прекрасно понимал, какую опасность представляет собой старый крейсер — и особенно два сопровождающих его эсминца, тоже устаревшие, но вооруженные ракетами «Экосет» — и не собирался предоставлять аргентинцам ни единого шанса устремиться к его авианосному соединению внутри периметра.
В общем и целом — опыт адмирала Вудварда наглядно демонстрирует, что крупные военные корабли вполне себе в состоянии «спрятаться посреди пустого места», используя не более чем искусно направленные в неверную сторону предположения оппонента для своего рода «психологической маскировки». Американцы могли обнаружить «Гламорган» без значимого труда (особенно зная его начальную позицию в результате пролета истребителя); но их внимание было отвлечено на представлявшие большую «немедленную угрозу» фрегаты, пытающиеся прорвать оборонительный периметр. Исходя из действий фрегатов, американцы — вполне логично — искали «Гламорган» тоже внутри периметра, где его в тот момент банально не было. И затем, когда с наступлением ночи «Гламорган» устремился на прорыв, его «психологическая маскировка» в виде ярких бортовых огней и беззаботных ответов в эфире сработала все также идеально; американцы (к этому моменту уже изрядно обеспокоенные своей неспособностью найти «Гламорган», и начавшие нервничать и совершать ошибки) попросту не обратили внимание на что-то столь вопиюще НЕ скрывающееся.
Вывод, который может быть сделан из этой истории, сводится к тому, что самым уязвимым звеном в современной цепочке «поиск-идентификация-поражение» является человек, интерпретирующий информацию. Люди склонны к следованию закономерностям; если закономерность ускользает, то человек подсознательно сначала будет пытаться ее «достроить», и лишь потом попробует сделать что-то другое. Если те, кто интерпретирует информацию, введены в заблуждение — то самая современная сенсорно-информационная система не сумеет помочь, поскольку ее совершенно правильные данные будут подставляться в неверные «ячейки» уравнения.
P.S. Поэтому такой интерес представляют в плане анализа тактической информации системы искусственного интеллекта — их «мышление» не аналогично человеческому, и их нельзя так просто ввести в заблуждение доступными людям методами.
источник: https://fonzeppelin.livejournal.com/369997.html