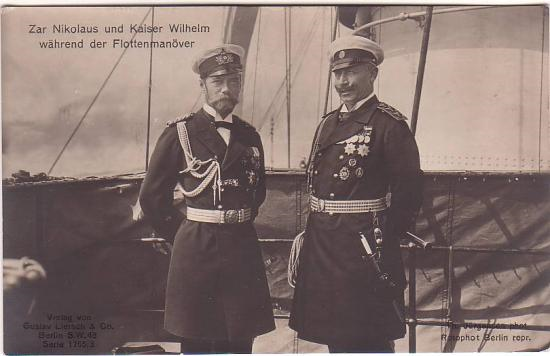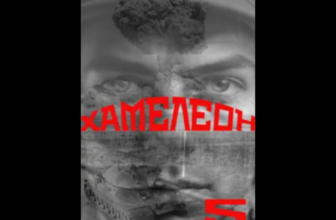«Глаголь» над Балтикой. Глава 23 и 24
Контр-адмирал Непенин в глубочайшей задумчивости изучал рапорты радиоперехвата. Читать германские шифротелеграммы флот научился еще в самом начале войны, получив в свое распоряжение шифровальные книги со злосчастного «Магдебурга». Немецкий крейсер налетел на камни в Финском заливе, да и застрял там: опасаясь, что вот-вот появятся русские, командир «Магдебурга» приказал не сжигать секретные документы, а по-быстрому утопить их. В океане это, конечно, сработало бы, но на камнях у русского острова – нет, так что водолазы выловили «утопленников» чуть ли не в тот же день.
Непросвещённому человеку может показаться, что теперь-то уж дело в шляпе и все германские планы станут известны Ставке еще до начала их исполнения: голова могла закружиться от ошеломляющих перспектив! Увы, но на самом деле все было гораздо сложнее.
Все потому, что подробные военные планы не передаются по радио, ни открытым текстом, ни шифрованно, и даже приказы конкретному кораблю отдаются обычно в письменном виде. Радируют обычные, конкретные указания, «идти туда-то», или кратко отчитываются об исполнении приказов – так что общий замысел операции из радиопереговоров редко бывает ясен. Хуже того – сколь бы ни были совершенны современные радиопередатчики, они не обеспечивают стопроцентного приема, отчего из множества германских радиограмм разведке попадает лишь часть, и не самая большая. Конечно и это все равно очень полезно, но нужно понимать: даже зная германские коды, требуется как следует поскрипеть мозгами, чтобы из разрозненных сведений понять замысел германского командования, и удается это, увы, не всегда.
К тому же код немцы регулярно меняют… К счастью, хохзеефлотте не догадывается о «подарке», который преподнес русским адмиралам командир «Магдебурга», поэтому в основе своей шифр остается прежним. Зная начальный код, новый можно взломать за недельку-другую – но на протяжении этих недель разведка сильно теряет в качестве. А смена позывных? Если у корабля сегодня радиопозывные такие, а завтра – другие, то этого никаким кодом не взломать, и надо слушать и сопоставлять радиопереговоры какое-то время, чтобы понять, кому что присвоили. Вот поэтому коды в радиоразведке – это полдела, даже четверть дела, а до всего прочего надо доходить своим умом. Конечно, возможности, которые дают знания шифров, уникальны, да только все равно информацию тебе на блюдечке с голубой каемочкой никто не даст.
Вот прямо как сейчас. Немцы явно затевают что-то очень масштабное: едва ли не впервые за всю войну на Балтику, сквозь игольное ушко Кильского канала протискиваются массивные туши дредноутов хохзеефлотте. В этом контр-адмирал был уверен совершенно, но какие и сколько? Увы, как назло, прямо перед переброской немцы сменили код, так что информационный ручеек на ближайшее время изрядно обмелеет. Но сменили ли они позывные? Может быть – да, а может и нет, у немцев бывало по-всякому. С одной стороны, перед новой и весьма масштабной операцией было бы разумно сменить не только коды, но и позывные, а с другой… При смене позывных немцы всегда делали так: часть кораблей получали совершенно новые, не использовавшиеся ранее позывные, другая часть – те, которые использовались ранее другими кораблями, а у третьей части кораблей позывные оставались неизменными. Поменяли – и гадай теперь, разведслужба, почему это позывной «Кайзерин» раньше был в Вильгельмсхафене, а теперь – в Киле? То ли крейсер с этим позывным перевели на Балтику, то ли корабль остался в Яде, но его позывной принадлежит теперь какой-нибудь брандвахте?
Но сейчас… В отчетах нет ни слова о появлении новых, не встречавшихся позывных, а это значит, что в этот раз немцы позывные менять не стали, ограничились кодами. Что ж, такое тоже бывало.
Адриан Иванович глубоко вздохнул. Ясно, что затевают немцы что-то серьезное и недоброе: по данным радиоперехвата немцы перебрасывают на Балтику большие силы – первый дивизион первой линейной эскадры, красу и гордость хохзеефлотте, в сопровождении второй разведывательной группы. Это – четыре первоклассных дредноута типа «Гельголанд», вставших на стапеля всего на год раньше русских «Севастополей» и имевших, как и последние, дюжину двенадцатидюймовых орудий, да двенадцать дюймов бортовой брони. Правда, скорость у немцев пониже, да и в бортовом залпе может участвовать только восемь орудий из двенадцати, тут русские дредноуты имеют большое, полуторократное преимущество. Но наши корабли вошли в строй, можно сказать, только что, доучивались в военное время, а германцы отходили по два-три года еще до войны: экипажи на них опытные и сплаванные, так что здесь преимущество уже за германцем. Вторая разведывательная группа – это семь вполне современных легких крейсеров. С учетом 4-ой эскадры броненосцев, немецкие силы на Балтике теперь ни в чем не уступают нашему флоту. И если немцы тиранили с моря Либаву, и близко не имея равенства в морских силах, то уж теперь-то от них можно ожидать чего угодно.
* * *
Контр-адмирал Кербер вошел в адмиральский салон предпоследним. Здесь уже присутствовали и Адриан Иванович Непенин, Михаил Коронатович Бахирев и командир 2-ой бригады линкоров, а точнее – старых броненосцев Василий Николаевич Ферзен и кое-кто еще. Не хватало только командира минных сил Максимова, ну и он зашел почти сразу же за Людвигом Бернгардовичем за минуту до объявленного начала совещания. Контр-адмиралы расселись за столом командующего, и фон Эссен немедленно приступил:
– Господа, буду краток. С рапортом Адриана Ивановича вы все уже ознакомлены: противник готовит крупную операцию по поддержке своих сухопутных сил. После получения подкреплений из Вильгельмсхафена немцы располагают четырьмя дредноутами типа «Гельголанд», семью броненосцами, семью легкими крейсерами и тремя, а может даже четырьмя флотилиями миноносцев. Это, разумеется, не считая старых броненосных крейсеров и прочей мелочи, которая у них тут сейчас есть. Другими словами, адмиралштаб сконцентрировал против нас силы, равные всему Императорскому Балтийскому флоту вместе взятому, и даже незначительно превосходит нас. Мы полагаем, что немцы попытаются осуществить прорыв тяжелыми кораблями в Рижский залив, для того, чтобы поддержать сухопутную атаку Риги с моря, и мы, конечно, будем противодействовать этому.
Здесь я должен сообщить Вам радостную новость. Ставка извещена о примерном составе сил, которые противник собирается задействовать против нас в Рижском, и признала эти силы равными нашим. Соответственно, в первый раз за всю войну мы имеем право использовать 1-ую бригаду линкоров по собственному усмотрению, без согласования со Ставкой, – здесь фон Эссен тонко улыбнулся: – Господа, мы получили превосходный шанс как следует щелкнуть кайзера по носу, и только от нас зависит, сумеем ли мы им воспользоваться.
Свои приказы вы получите по окончании совещания, и в них все изложено, да и нет в них ничего такого, чего мы бы не обсуждали раньше, – командующий кивнул головой в сторону пачки объемистых конвертов: – Но все же повторим в самых общих чертах. По нашим предположениям, немцы будут прорываться через Ирбенский пролив. Вероятнее всего, они отправят туда броненосцы четвертой эскадры, а дредноуты будут обеспечивать дальнее прикрытие на случай, если мы выведем в море «Севастополи». Легкие силы они развернут между горлом Финского залива и Моонзундом, дабы своевременно получить информацию о выходе наших линкоров в море. Заблаговременно обнаружив их, они смогут нанести удар не только дредноутами, но броненосцами четвертой эскадры, а возможно, постараются зажать нас в клещи между «Гельголандами» и броненосцами. Это для нас неприемлемо.
Сейчас в Рижском у нас только броненосцы береговой обороны да старые миноносцы, и этого, конечно, недостаточно для его защиты. Поэтому нам придется дробить вторую бригаду линкоров: «Цесаревич» и «Слава» пойдут оборонять Моонзунд. Вы, Василий Николаевич, примете командование всеми броненосцами, и Ваша задача – не пропустить броненосцы немцев в Рижский. Делайте все, что необходимо, но пропускать четвертую эскадру в Рижский запрещаю категорически. Выполнив эту задачу, Вы поставите немцев в крайне неудобное состояние – уйти ни с чем, стянув для операции такие силы они не могут, так что им придется отправлять в бой дредноуты.
С ними Вы, разумеется, не справитесь, и тут Ваша задача – вести сдерживающие бои, всячески мешать им тралить фарватеры, а затем – отступить, возможно и вовсе уйти из Рижского залива в Финский. Но как только я узнаю о том, что Вы атакованы, я выведу первую бригаду, все четыре «Севастополя» к Уте, чтобы потом не тратить время на проход наших минных заграждений, а как только Вы втянете в бой «Гельголанды», я атакую. К этому времени Вы отступите, часть германских кораблей войдет в Рижский залив, я же постараюсь уничтожить то, что они оставят у входа в Ирбенский пролив. Выдвигаться к Моонзунду буду ночью, так будут хорошие шансы проскочить мимо немецких дозорных и застать их главные силы врасплох, появившись перед ними с рассветом. И если Господь дарует нам победу, то мы не просто разобьем часть их флота, но еще и закупорим остальные их корабли в Рижском заливе. Немцы трижды пожалеют о том, что вообще туда сунулись. И потому я повторю еще раз: успех Вашей обороны, Василий Николаевич, определит успех операции в целом.
«Андрея Первозванного» и «Павла I-го», к сожалению, в Рижский залив отправить невозможно – если что-то пойдет не так, им не вернуться оттуда в Финский, осадка не позволит. Но и вести их в бой вместе с «Севастополями», снижая эскадренную скорость, я не могу. Потому передаю эти два корабля на усиление Вашей бригады, Михаил Коронатович, – обратился фон Эссен к Бахиреву:
– Принимайте командование, да берите проштрафившегося «Рюрика» в придачу. Ваш «Макаров», «Рюрик», два броненосца – уже сила, так что станете нашим резервом. Как я и сказал, в рейд на Моонзунд я поведу дредноуты в ночь, а с рассветом Вы выйдете из-за центральной минно-артиллерийской к Даго – в случае нашей неудачи прикроете наше возвращение, да и, к тому же, совсем без охраны наши минные позиции оставлять нельзя.
Вот Ваши приказы, господа. Изучите их сами и ознакомьте с ними командиров Ваших кораблей, а завтра к вечеру проведем собрание флагманов – да и пойдем с Богом. До того, как немцы начнут свою операцию, у нас есть еще дня три или четыре, так что подготовиться успеем, но затягивать не следует.
* * *
Эрхард Шмидт, командующий четвертой эскадрой хохзеефлотте, испытывал весьма противоречивые чувства. С одной стороны, законная гордость – он получил новое назначение. Нет, пост командира эскадры – это очень и очень неплохо, и Шмидту пришлось чертовски много работать, чтобы достичь этого. И еще больше пришлось работать, когда он этого все-таки достиг. Год тому назад он полагал, что вполне освоился с новой должностью, а сейчас, по его мнению, способен был на большее. Оказалось, что руководство придерживалось такого же мнения: всего лишь несколько дней тому назад вице-адмиралу было поручено командование всеми морскими силами Германии, сосредоточенными в Балтийском море. Не навсегда, конечно, а на период проведения задуманной в высших кругах операции, но масштаб задействованных сил превосходил все, на что мог рассчитывать Шмидт. Даже закрадывалось опасение – справится ли? Вице-адмирал не являлся карьеристом в общепринятом смысле этого слова, хотя, разумеется, не был лишен здоровых амбиций. Попросту говоря, он стремился быть лучшим среди других: производство в новый чин или же новая должность были для вице-адмирала только свидетельством его заслуг, а дополнительные блага, проистекающие из нового положения – наградой за труд. Превыше всего Шмидт ценил компетентность и, конечно, ему и в голову никогда не пришло желать для себя пост, к которому он не был готов: а сейчас его одолевали сомнения.
Получив назначение и будучи опытным и умелым моряком, Шмидт сперва почувствовал «крылья за спиной» и с энтузиазмом приступил к проработке деталей операции. Но чем дальше он углублялся в них, тем меньше нравилась ему эта балтийская затея адмиралштаба.
Первое и самое главное – сжатые сроки операции. Командующий хохзеефлотте вовсе не горел желанием ополовинить собственные силы на сколько-то долгий срок. Гуго фон Поль резонно отметил, что с оставшейся у него в Вильгельмсхафене второй эскадрой и «Дерфлингером» он даже безопасность бухты Яде, святая святых германского флота на Северном море, гарантировать не может. С самого начала войны англичане вели себя на море пассивно, по большей части ограничиваясь дальней блокадой, но что они могут предпринять, если узнают, что половина хохзеефлотте покинула Вильгельмсхафен?
Здесь вице-адмирал отдавал должное штабным. Затеянная радиоигра должна была дезинформировать англичан и создать мнение, что на Балтику ушли не слишком значительные силы. С этой целью перед самой переброской произошла смена позывных: первая линейная эскадра хохзеефлотте передала свой позывной недавно вернувшемуся в Вильгельмсхафен «Дерфлингеру», а сама приняла позывные собственного первого дивизиона, в то время как первый разведывательный отряд обменялся позывными с флотилией миноносцев, оставшихся в Яде.
Теперь любой англичанин, достаточно дотошный, чтобы разобраться в германских позывных, прослушивая немецкие переговоры, сочтет, что Вильгельмсхафен покинули четыре дредноута вместе с легкими крейсерами и миноносцами. Это значительные силы – но остающихся в Северном море тринадцати дредноутов и четырех линейных крейсеров вполне достаточно, чтобы заставить британцев воздерживаться от необдуманных действий. На самом же деле в Балтику идет вся первая линейная эскадра целиком, а это восемь дредноутов, да еще и с тремя линейными крейсерами первого разведывательного отряда впридачу, оставляя командующего хохзеефлотте всего только с девятью дредноутами и одним линейным крейсером.
Дезинформация должна была сработать на какое-то время, но никто не сомневался в том, что радиолапша на британских ушах продержится не слишком долго. Поэтому Гуго фон Поль настаивал на кратчайших сроках проведения операции.
А короткие сроки, увы, влекли за собой известную суматошность планирования и отказ от детальной разведки. Да, германские корабли уже заходили в Ирбенский пролив, и тогда он не был минирован, но это было уже больше месяца тому назад. Насторожило ли это русских? Их способности к минной войне были чрезвычайно высоки, за месяц они вполне могли создать там мощнейшую минную позицию. А состав и численность корабельного отряда, обороняющего Рижский залив? Шмидт сразу же за вступлением в должность распорядился наладить авиаразведку, но получилось не слишком хорошо – кроме миноносцев, канлодок и одного маленького броненосца береговой обороны пилоты ничего не нашли. Зато их самих нашли русские истребители, сбившие одного разведчика. Известно было, что в Моонзунде базировались два броненосца береговой обороны: но, быть может, один из них ушел на плановый ремонт, или еще по какой надобности? Или его все-таки прозевали воздушные наблюдатели? Конечно, два этих кораблика хоть вместе, хоть порознь, четвертую эскадру не остановят. Но если авиаторы одного из них все же прозевали, то это свидетельствует о низком качестве разведки: значит, могли просмотреть еще кого-то, а кого? Из агентурных сводок вице-адмирал знал, что раньше русские не могли проводить свои броненосцы из Финского в Рижский. Знал и то, что они вели донноуглубительные работы, но не закончили их. Но вот каком состоянии они «не закончились»? Возможно, наиболее старые и не слишком глубокосидящие «Слава» и «Цесаревич» уже получили возможность пройти? А может, все это и вовсе дезинформация, и на самом деле войти в Моонзунд способны новейшие русские дредноуты? А как насчет сухопутной артиллерии? Русские не пытались превратить острова Моонзундского архипелага в неприступные крепости, но все же береговую оборону крепили. И кто знает, что им удалось установить по берегам Ирбенского пролива за истекший месяц? Шмидт ничуть не сомневался в том, что русские давно «обжили» Моонзундский архиплаг, оборудовав множество якорных стоянок для своих кораблей, но к их выявлению даже не приступали, так что немецкий командующий ничего о них не знал.
Множество вопросов остались без ответа, и разъяснять их времени нет, но все это вице-адмиралу категорически не нравилось. Шмидт был твердо уверен, что знание врага дарует победу, а сейчас своего противника он не знал. Соответственно и план операции командующий вынужден был составлять, опираясь лишь на собственную силу. Безусловно, вверенная его руководству мощь превосходила силы русских как минимум вдвое, а скорее даже втрое, и это как будто внушало уверенность в успешном исходе дела, но…
Взяв за основу план принца Генриха, Шмидт добавил к нему всего лишь одну деталь: четвертая эскадра, прикрывая тральный караван, форсировав Ирбенский пролив, сразу пойдет в сторону русских фарватеров из Рижского в Финский. Там минный заградитель «Дейчланд» заминирует проходы, и русские корабли, уцелевшие во время прорыва четвертой эскадры, окажутся в ловушке. Ночь вторгнувшаяся в Рижский эскадра проведет на якоре, отстоявшись за минными сетями и патрулями миноносцев, а утром сокрушит остатки русских кораблей, уцелевших после вчерашних боев. Затем тяжелые корабли поддержат с моря штурм Риги.
Что до прикрытия, то Шмидт собирался расположить дредноуты и линейные крейсера хохззеефлотте по линиям Готланд — Курляндия и Готска Санден – Сворбе соответственно. Если русские рискнут отправить в бой эскадру, сторожащую Финский залив, то первая разведгруппа установит с ней контакт, а первая линейная эскадра – уничтожит. Русские дредноуты мощны, они несколько лучше «Гельголандов» и значительно лучше «Нассау», но численного превосходства в пропорции два к одному техническим совершенством не перешибешь. Ну а если царская эскадра не рискнет покинуть воды Финского залива – что ж, так тому и быть. Захват Риги откроет войскам кайзера дорогу на Петербург, так что цель операции все равно будет достигнута.
Часы пробили полночь, и вице-адмирал, болезненно поморщившись, отложил бумаги. Нужно было как следует отдохнуть: до начала операции оставалось немногим более суток.
* * *
В ночь с 6-го на 7-е августа 1915 года кайзеровские корабли поднимали пары и выбирали якоря, а портовые буксиры растаскивали в стороны сети и боны. Малым ходом из гаваней выходили дивизионы, флотилии и отдельные корабли: как множество ручейков, стекающихся в полноводную реку, под покровом тьмы сливались они в огромные эскадры. Восемь дредноутов и семь броненосцев, три линейных и два броненосных крейсера, семь легких крейсеров, пятьдесят четыре эсминца и миноносца, тридцать четыре тральщика, три подводных лодки, минный заградитель и многочисленные вспомогательные корабли шли сейчас в заранее назначенные им точки сбора.
Мощь германского военно-морского флота, так долго лежавшая под спудом, сейчас приходила в движение. В сумраке ночи выстраивались колонны тяжелых кораблей, в авангарде разворачивались крейсерские завесы, на флангах резали волну миноносные флотилии: все было готово к походу и бою, и в назначенный час армада двинулась вперед. Сотни тысяч тонн стали, управляемые тысячами людей и ведомые железной волей адмиралштаба устремились сейчас на север. Выкрашенные в шаровый цвет, сливающиеся с темной балтийской водой, корабли шли экономическим ходом, до срока не давая воли трепещущей в предвкушении схватки энергии своих машин. В этом они были подобны гигантской приливной волне: цунами редко можно заметить в океане, оно неразличимо средь иных волн, но, достигнув берега, обретает чудовищную мощь. Так и германский флот, до поры до времени мирно дремавший в Вильгельмсхафене, сейчас медленно двигался вперед, набирая инерцию и разбег. С тем, чтобы, достигнув Рижского залива, обрушить гнев Посейдона на зарвавшихся русских, круша их оборону и корабли и даже саму мысль о возможности сопротивления безупречной германской военно-морской машине.
ГЛАВА 24
Утро Льва Георгиевича Постригаева началось с глухого бубуха.
Командир канонерской лодки «Грозящий» ложился спать на закате, но приказывал будить себя задолго до рассвета с тем, чтобы встречать первые лучи солнца на ходовом мостике. Рассуждение было очень простое – если враг придет, то произойдет это с первыми лучами солнца.
После летнего рейда германских кораблей в Рижский залив его обороной озаботились всерьез, завалив Ирбенский пролив тремя линиями минных заграждений, да еще и учинили корабельный дозор, в котором сегодня находился «Грозящий». Вряд ли можно было ожидать, что мины останутся для немцев секретом, а даже если останутся – здравый смысл призывал начинать траление с самого утра, чтобы иметь весь световой день в запасе. По понятным причинам вылавливать мины в темноте было далеко не лучшей идеей, а за дураков немцев никто не держал.
Сегодня Лев Георгиевич не изменял своей привычке и встал до рассвета: наскоро глотнув кофе, извлек бритвенные принадлежности и приступил к делу. Обильно вспенив теплую, принесенную вестовым воду, наложил помазком белоснежную пену на подбородок и щеки и дал ей чуть-чуть полежать на коже. Затем взял опасную бритву и начал аккуратно убирать отросшую за сутки небольшую щетину. Командир «Грозящего» всегда предпочитал бриться начисто, не допуская ни бороды, ни усов, ни намека на них. В предрассветном сумраке Постригаев плохо видел свое отражение в зеркале, но ежедневный ритуал настолько вошел в привычку, что Лев Георгиевич особо в том и не нуждался. Он, пожалуй, смог бы бриться и в полуночной тьме, проверяя качество бритья ладонью – за годы, проведенные на маленьком кораблике, качаемом волной вдоль и поперек, его искусство брадобрея достигло нешуточных высот.
Именно поэтому рука Льва Георгиевича не дрогнула, когда над тихими водами Рижского залива вдруг разнеслось глухое «БУУУУУУ». Ну… скажем так, почти не дрогнула: все же острейшее лезвие скользнуло по коже чуть сильнее, чем требовалось, отчего на коже вспухла капелька крови: маленький рубин, оттененный белоснежной пеной.
Постригаев тихо ругнулся, но времени терять было нельзя – молниеносно добрившись и одевшись, он ринулся на ходовой мостик, застегивая китель уже за порогом своей маленькой каюты. Буквально взлетев по узкой лестнице, командир «Грозящего» первым делом ознакомился с оперативной обстановкой, покрутив головой на 360 градусов. Бинокль не требовался, потому что солнце еще не взошло и видимость была чуть больше мили: картина наблюдалась идиллическая. «Грозящий», маленький кораблик водоизмещением меньше двух тысяч тонн, тихо пыхтел своей коротенькой трубой, разрезая едва ли не зеркальную гладь балтийского моря. Вода убаюкивающе-тихо плескалась о его широкие скулы, оставляя широкий кильватерный след за кургузой кормой. Двадцать пять лет уже ходит канонерская лодка по морям и океанам, хотя океаны Постригаев помянул зря – впрочем, в Средиземном море лодка по молодости лет службу несла. Однако же прогресс рвался вперед семимильными шагами, военная техника старела быстро и уже к началу русско-японской канлодка была вконец устаревшей, почему вскоре была переведена в тральщики. Впрочем, потом кто-то сообразил, что тральщик из канонерской лодки совсем никудышний, и «Грозящего» переименовали в базу для тральщиков, а затем, поставив две новейших шестидюймовки, вновь вернули «канонерский» ранг. Сейчас палуба небольшого, пожилого корабля являла собой образец чистоты и порядка, соблюдавшегося на «Грозящем» неукоснительно. В кильватер ему шла еще одна «старушка»: канонерская лодка «Храбрый», которая, будучи моложе на пару годков, в сущности была таким же раритетом. Впрочем, не так давно ее изрядно «подштукатурили», поснимав старую артиллерию и разместив на корабле шесть 105-мм орудий, которые «Храброму» «одолжил» ныне покойный «Магдебург». Германский крейсер нельзя было снять с камней, но орудия и большая часть боекомплекта сохранились, так не пропадать же добру! В таком виде оба старых кораблика вполне справлялись с задачей стрельбы по берегу, тем более что оба несли броню, отчего могли не слишком-то опасаться ответа полевых орудий. А вот для сколько-то серьезного морского боя канонерские лодки никаким образом не годились.
– Ну и что тут у Вас происходит, мичман? – обратился он к вахтенному офицеру. – Чего грохочем поутру, мешаем бриться старшим по званию?
– Доброе утро, Лев Георгиевич! Так это, похоже, кто-то на мину напоролся, уж больно звук глухой был.
– Не отпирайтесь, мичман Ливанов, нечего собственный недосмотр на немцев перепихивать. Хотя… если это немцы, то грядет сражение, в котором я, получается, свершил героическое деяние – первым кровь пролил. Когда брился, потому как под руку бабахнуло. Интересно, Анна с мечами и бантом мне за это полагается? Или, как всегда, бантики генмор зажмет?
Мичман молчал, ибо вопрос был риторическим.
– Однако же следует посмотреть, кто это там такой ретивый, – заметил командир, и вскоре обе канонерские лодки, описав полукруг, легли на новый курс, выводящий прямо к ирбенскому минному заграждению.
Светало. Первый лучик солнца уже скользнул из-под горизонта, а видимость с мостика «Грозящего» улучшалась даже не по часам, а едва ли не по секундам.
– Тааак, что тут у нас… — протянул командир «Грозящего», шаря биноклем по горизонту. –Солнышко светит, морская волна зеленеет… Ага! Немец дымит! – азартно воскликнул Постригаев.
Дистанция для наблюдения была великовата, но сквозь предрассветную хмарь отчетливо проступали многочисленные дымы небольших кораблей.
– Тральный караван, не иначе. Пришли, гости дорогие!
Один из тральщиков дымил много сильнее других, рядом с ним находился второй, и, похоже, сейчас на дымящего заводили концы для буксировки.
– Похоже подорвался, гаденыш. Радиограмму Максимову, срочно! – не отрываясь от бинокля рявкнул Постригаев. Первым делом, перед тем как что-то предпринимать, следовало сообщить о противнике начальству.
– А мы, пожалуй, повоюем немного. Боевая тревога!
«Грозящий» пошел на сближение с противником, хотя, конечно, сближение получалось условное – мина не разбирает, свой это корабль или чужой, так что соваться на родные минные заграждения никак не следовало. А их, этих заграждений, было три линии. Минимально возможная дистанция до тральщиков будет на пределе дальности шестидюймовок «Грозящего», а стопятки «Храброго» и вовсе вне игры. «Крейсер «Варяг» с верным «Корейцем», – подумал про себя Постригаев, потому что в том героическом бою «Кореец» тоже не имел возможности дострелить до противника. «И кто мешал вооружить «Храброго» шестидюймовками?». Впрочем, это тоже риторический вопрос, а вот представить себя на мостике ставшего легендарным крейсера получалось легко – достаточно глянуть на множество дымов, надвигающихся с запада.
Стих дробный топот ног разбегающихся по своим боевым заведованиям матросов, тихо загудел элеватор подачи снарядов. Казенник 152-мм орудия принял в свое чрево снаряд и гильзу с зарядами, а дальномерщик, сидящий в клетушке небольшого марса на куцей мачте, выкрикнул расстояние. Это на линкорах и крейсерах системы управления огнем с тумблерами, циферблатами да передатчиками, а мы по старинке, как отцы и деты заповедали… грохот двух, почти одновременных выстрелов ударил по ушам, и Лев Георгиевич всмотрелся в бинокль. Вот два столба падений, и достаточно далеко от вражеских кораблей. Ну ничего, сейчас пристреляемся, может и попадем в кого, хотя, на такой-то дистанции… но море гладкое, что твое зеркало, качки почти нет, может и получится.
Десять залпов успел сделать «Грозящий», и последний из них положил снаряды в опасной близости от одного из тральщиков. Подстригаев голову готов был дать на отсечение, что того осыпало осколками. А потом что-то очень большое просвистело над его головой и упало кабельтовых в семи за канлодкой, подняв по меньшей мере двадцатиметровые водяные столбы.
– Ух, мать…
Постригаев, излишне сосредоточенный на результатах стрельбы «Храброго», вновь обратил внимание на горизонт. Ну конечно… сквозь легкую дымку отчетливо проступали три силуэта. Один, поменьше, наверняка принадлежал легкому крейсеру и угрозы не представлял – германские стопятимиллиметровые пукалки, которые они ставили на крейсера, особой дальностью стрельбы не отличались. Но вот другие два – очень массивные, это наверняка…. Вдруг оба силуэта озарили вспышки выстрелов. Падения снарядов можно не дожидаться, все ясно и так:
– Это эскадренные броненосцы, бьют из одиннадцатидюймовых, – произнес Лев Георгиевич: – Вечер перестает быть томным. Задробить огонь! Отступаем.
Два гигантских фонтана, взметнувшиеся перелетом, но все же существенно ближе к русским кораблям, чем до этого, подтвердили правоту командира «Грозящего».
* * *
Всеволод Александрович стоял на мостике «Славы», подставив лицо набегающему прохладному ветерку. Сообщение о начале прорыва никого не застало врасплох – все знали, что попытка должна состояться на днях, и были к ней готовы. Основа обороняющих Рижский залив сил – линкоры (в недалеком прошлом – эскадренные броненосцы) «Слава» и «Цесаревич», а также пара «адмиралов» – броненосцев береговой обороны «Сенявин» и «Апраксин» ожидали немцев на рейде Аренсбурга. Котлы держали в часовой готовности, так что вскоре после получения радиограммы «Грозящего» эскадра вышла в направлении Ирбенского пролива.
Идти было недолго, и вскоре на «Славе» уже хорошо видели немецкие дымы, а затем – и не только дымы. Погода стояла на удивление отличная, поэтому неприятель был виден великолепно и куда лучше, чем смог разглядеть его на рассвете Постригаев. Тральный караван уже проложил дорогу сквозь первое минное заграждение, но даром для немцев это не прошло: в оптику хорошо было видно вертикально торчащую корму одного из тральщиков, а еще один, сидящий по самые клюзы в воде кораблик, выволакивали на буксире. За тральщиками хорошо просматривалась группа непосредственной поддержки – два броненосца-додредноута и два легких крейсера.
– Как-будто бы «Лотринген» и «Гессен», а из крейсеров один – точно «Бремен», но вот кто второй – не видно, – доложил Ферзену Сергей Сергеевич Вяземский, командир броненосца «Слава».
Командующий 2-ой бригадой кивнул. Против четырех русских кораблей – не слишком большая сила, но за ними просматривались силуэты пяти броненосцев четвертой эскадры. Семь полноценных кайзеровских эскадренных броненосцев против четырех русских – уже нехорошо. А если вспомнить, что «Апраксин» и «Сенявин» вместе взятые уступают размером и силой любому броненосцу неприятеля – совсем плохо.
Но… Всеволод Александрович готов был поставить по сто свечей во здравие как фон Эссену, так и германскому командующему, благодаря решительности которых состоялся бой 7 сентября 1914 года. Сражение броненосцев закончилось, по большому счету, вничью, но выявило серьезный недостаток русского главного калибра – недостаточную дальность стрельбы.
Башни русских кораблей, проект которых создавался задолго до русско-японской войны, позволяли стрелять двенадцатидюймовым пушкам на 80 кабельтов. Конечно, в конце 19-го века, когда дистанцией решительного боя считались 7–15 кабельтов, этого было более чем достаточно, но сейчас неожиданно выяснилось, что немецкие броненосцы способны забрасывать свои снаряды и на 90, а то и 100 кабельтов. Разумеется, стрелять на 100 кабельтов и попадать на 100 кабельтов – это принципиально разные вещи, но все же подобное положение было признано нетерпимым. Удивительно, но оказалось, что подобная модернизация уже кем-то когда-то планировалась, и даже были готовы рабочие документы, но отложили в долгий ящик. Что ж, зато сейчас, по крайней мере, это можно было сделать быстро. Вот так и получилось, что вставшим на ремонт кораблям не только подправили все, что было сломано германскими снарядами, но заодно увеличили углы вертикальной наводки, сравняв дальности стрельбы русских и германских броненосцев. А потом, уже зимой, «подтянули» углы возвышения и «Апраксину» с «Сенявиным».
– Пойдем вдоль заграждения – решил адмирал.
– Сергей Сергеевич, – обратился он к командиру «Славы»: – Держитесь от их передовых броненосцев кабельтов на девяносто пять. Понимаю, далековато, – Ферзен сочувственно взглянул на Русанова, – но придется постараться. Есть для нас небольшая хитрость, которая может сравнять шансы, но Вы уж не подведите старика!
Вячеслав Александрович про себя хмыкнул. На такой дистанции… ну что же, какой-то шанс попасть, конечно, есть – расходуя полбоекомплекта на попадание, но приказ есть приказ.
– Будем стараться, Василий Николаевич.
«Грозящий» и «Храбрый» оставались тут же – они вышли из-под огня германских кораблей, и те, сдерживаемые минным полем, пока не могли сократить дистанцию. Но и канлодки потеряли возможность стрелять по тральщикам, даже шестидюймовки «Грозящего» не могли до них дотянуться. Все, что оставалось двум старым корабликам – обозначать присутствие и наблюдать: а зрелище перед ними развертывалось преинтересное.
Все, кто не на вахте, высыпали сейчас на верхнюю палубу, во все глаза наблюдая за происходящим. Вскоре после короткой перестрелки на рассвете прилетело несколько аэропланов, Постригаев насчитал четыре штуки. Те немного пожужжали над германскими кораблями и даже, кажется, пытались бросать в них бомбы, но из этой затеи ничего не вышло – каких-то взрывов Лев Георгиевич не увидел, хотя зрелище было все равно захватывающее. А потом появились броненосцы Ферзена: близилась кульминация.
Четыре русских броненосца на тринадцати узлах шли сейчас в сторону минного заграждения – и пусть это корабли старых проектов, пускай броненосцы береговой обороны и малы и слабы, но зрелище эскадры, идущей навстречу вдвое превосходящему неприятелю, было величественным и прекрасным. Вот, вздымая бурун, идущий головным «Слава» покатился влево, ложась на боевой курс, вот вслед за ним повернул «Цесаревич», «Апраксин»…
– Кто же начнет первым? – не успел задать Лев Георгиевич еще один риторический вопрос, когда на горизонте полыхнули вспышки выстрелов. И тут же «Слава» окутался дымом ответного залпа, а вслед за ним выстрелы грянули и с других броненосцев.
Десятки горящих глаз с канонерок наблюдали сейчас дуэль гигантов, бинокли только что не рвали друг у друга из рук. Грохотали орудия, огромные фонтаны вздымались вокруг русских кораблей, и то же самое, наверняка, происходило сейчас по ту сторону минных заграждений – наверняка под градом русских снарядов море кипело и там, хотя на такие дистанции с низкобортных канонерок видно было плохо. Но прошло пять минут.. Десять… Ничего! И немцы и русские дрались, вкладывая все свое умение, наработанное годами учений и волю к победе в каждый снаряд, брошенный в неприятеля. Дрались яростно, отчаянно и… безрезультатно.
Вот на фалах «Славы» взвились какие-то сигналы, остальные отрепетовали.
– Поворот все вдруг, – прочитал Лев Георгиевич.
Но вдруг, еще до того, как адмирал распорядился исполнять, неожиданно один германский броненосец выбросил клубы белого пара и покатился из строя куда-то влево.
– Есть попадание!
Громовое «ура!» перекатывалось с «Грозящего» на «Храбрый» и обратно. Десятки мужских глоток ревели в упоении на разные голоса, разряжая копившееся под спудом напряжение солдата, вынужденного смотреть, как сражаются другие, но увы, неспособного самому вступить в бой.
* * *
«Началось!» – Николай Оттович почувствовал, как сердце подпрыгнуло и понеслось вскачь, вгоняя в жилы лошадиные дозы адреналина, когда флаг-офицер положил перед ним тексты радиограмм. Однако свое радостное возбуждение фон Эссен решил прикрыть строгостью, да оно того и стоило:
– Андрей Семенович все сделал верно, – задумчиво сказал он, держа в руках тексты обоих радиограмм. – Как только его дозор обнаружил неприятеля, он сообщил об этом мне. Затем поднял своих воздухоплавателей на разведку, а когда те вернулись с докладом, Максимов отправил мне вторую телеграмму, с подробным описанием германских сил. Контр-адмирал понимает, что мне нужна вся информация, которую он может мне предоставить и как можно быстрее. А мой начальник связи это понимает? Как так вышло, что обе телеграммы ложатся мне на стол одновременно?
Флаг офицеру оставалось только пожать плечами:
– К сожалению, Николай Оттович, первую радиограмму Максимова мы не приняли. Получили вторую, а в ней он не только отправил нам новое донесение, но и продублировал старое, потому мы о нем и узнали.
– Разберитесь и накажите. Непорядок! Война началась, немец четвертой эскадрой Ирбены штурмует, а мы тут… сидим, ничего не зная. Полдня, считай, потеряли!
– Разобрались уже, Николай Оттович. Радисты напутали – приняв первую радиограмму, умудрились транслировать ее на «Рюрик», а Вы ж третьего дня флаг на «Полтаву» перенесли.
– Тьфу… Обормоты, линек им поперек, – негрубо выругался командующий Балтфлота.
– Сейчас не до этого, Александр Александрович, но потом проследите, чтобы взгрели их там как следует.
– Прослежу, Николай Оттович.
– Ладно, с этим все. Зовите Владимира Евгеньевича! Гадаете, зачем? По местам стоять с якоря сниматься! Пойдем к Уте, – и, отвечая на невысказанный вопрос офицера фон Эссен продолжил:
– Бог даст, повоюем, не все же Бахиреву за нас отдуваться.
* * *
Эрхард Шмидт, прочитав сообщение с «Гессена» постарался ничем не выдать своего разочарования. Русские… подготовились лучше, чем он ожидал, а он, получается, угодил впросак.
Четвертая эскадра, включала в себя не слишком пострадавшие после боя 7 сентября 1914 года броненосцы «Гессен», «Лотринген» и «Пройссен», на котором поднял свой флаг сам Шмидт, и четыре более старых корабля типа «Виттельсбах». Три первых корабля несли дальнобойную 280-мм артиллерию и могли сражаться с русскими на дальних дистанциях, но «Виттельсбахи» с их старыми 240-мм пушками – не могли. Поэтому формально Шмидт выставил семь броненосцев против четырех, но из этих семи сейчас сражаться могли только три, и это давало русским преимущество. А в завязке боя стрелять по врагу могли только «Гессен» и «Лотринген», потому что Шмидт на «Пройссене» держался с «Виттельсбахами» мористее. Разумеется, Шмидт немедленно приказал командиру «Пройссена» идти войти в протраленный фарватер и поставить свой броненосец за «Гессеном» и «Лотрингеном». Теперь силы несколько подравнялись за некоторым преимуществом русских, но все же стали сопоставимыми, и германские броненосцы сражались.
Наблюдая за русскими кораблями, Шмидт отмечал хорошую работу своих артиллеристов. Cтрельба велась интенсивно и точно: Шмидт хорошо наблюдал несколько накрытий по головному русскому броненосцу. Но дистанция колебалась 95–100 кабельтов, рассеивание снарядов на таком расстоянии очень велико, попадания уже могли быть, и рано или поздно обязательно случатся, но пока их не было. А затем тяжелый снаряд поразил «Гессен». В сущности, чистое везение – русские корабли, защищавшие минную позицию, стреляли не лучше, хотя, пожалуй, и не хуже броненосцев четвертой эскадры. Но сказалось неудобство позиции – русские хоть и не стреляли по тральщикам, сразу ударив по идущим за ним броненосцам Шмидта, но те все равно ползли еле-еле и «Гессен» с «Лотрингеном» вынуждены были изобразить снулых мух посреди минных полей. Они шли едва 5-7 узлов по прямой, а русские броненосцы ходили на 13 узлах разными курсами и выцелить их было куда сложнее…
В обычном бою одно-единственное попадание никак не могло бы вывести «Гессен» из строя. Но на таких сумасшедших расстояниях снаряды падали под большим углом, словно их выпускали не из корабельных пушек, а из древних мортир. И это было очень опасно для старых кораблей, чья защита не была рассчитана на подобный удар. Предполагая воевать на дистанции пары-тройки миль, броненосцы всех стран старались защитить от настильного, но не от навесного огня: корабли этого класса имели сильно бронированные, предназначенные «держать» удары тяжелых орудий борта, но тонкие, по сути своей скорее противоосколочные бронепалубы.
И вот сейчас русский снаряд с легкостью проломил германскую палубную броню и взорвался прямо в левой машине броненосца. Эрхардт Шмидт болезненно поморщился, представляя себе адскую смерть обслуживающих ее матросов. Тех, кого пощадили осколки русского снаряда, сварили заживо бьющие во все стороны струи разогретого пара из пробитого корпуса машины: такого конца не пожелаешь даже злейшему врагу.
Но это война и увы, люди на ней погибают, и командующий не может предаваться скорби по ним – во всяком случае, не во время боя. А бой складывался нехорошо – потеряв левую машину, «Гессен» утратил способность держаться на курсе и сейчас, описав циркуляцию, сбросил ход, чтобы не вылететь ненароком на русские мины. С протраленного фарватера все равно вылетел, но, к счастью, не подорвался, зато пристреливаться по неподвижному кораблю русским стало не в пример проще.
Шмидту ничего не оставалось, кроме как прикрыть огнем «Пройссена» и «Лотрингена» подбитый броненосец. Вице-адмирал тут же приказал дать сигнал одному из «Виттельсбахов» – «Мекленбургу» брать «Гессен» на буксир. Дело непростое и рисковое, потому что на «Гессен» обрушился град снарядов и до тех пор, пока его не вытащили за пределы дальности русской артиллерии, поврежденный корабль получил еще одно попадание. Кроме того, по нелепой случайности один снаряд поразил корму «Мекленбурга», хотя русские явно стреляли не по нему, а по «Гессену». В ответ «Пройсссен» и «Лотринген» добились двух попаданий в «Славу», идущего головным, при том что старший артиллерист «Пройссена» ручался, что было и третье. Как бы то ни было, серьезных последствий они не повлекли – головной русский корабль взрываться или покидать строй не собирался, а его артиллерия продолжала вести огонь с неослабевающей интенсивностью.
Итак, «Гессен» вне опасности, но теперь Шмидт остался с двумя кораблями против четырех русских, и это было совершенно не то соотношение, при котором он хотел бы продолжать операцию.