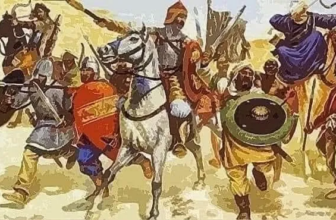Обособленное существование Восточной Прибалтики уже в раннее средневековье выглядело некоторой аномалией. Выгодное географическое положение на международных торговых путях, а также близость более развитых межэтнических объединений и нарождающихся государств должно было в достаточно короткие сроки привести народы этого региона к той или иной форме зависимости от соседей. Впрочем, такое заключение справедливо лишь отчасти. Многочисленные покорители прибалтийских земель неизменно сталкивались здесь как с ожесточенным сопротивлением местных жителей, так и многими другими трудностями, вынудившими растянуть историю завоевания на несколько столетий.
Вплоть до конца XII в. безальтернативными претендентами на контроль в этом регионе считались русские княжества. Прежде всего, Полоцкое и Новгородское, к которому можно пока присоединить и Псков. Они были заинтересованы в обеспечении беспрепятственного торгового сообщения по основным прибалтийским речным магистралям Даугаве (латв. Daugava, нем. Düna, рус. Западная Двина, эст. Вэйна, Väina) и Неве, а также вдоль побережья Северной Эстонии, острова Эзель (нем. Ösel, эст. Сааремаа, Saaremaa) и Курляндии (нем. Kurland, латв. Kurzeme).
Поддерживать свою власть в других областях было не только более сложно, но менее выгодно. Количество местного населения никогда не составляло значительного числа (литва — около 170—190 тыс. чел.; латгалы, курши, земгалы, селы — около 140—160 тыс. чел.; ливы — около 15—28 тыс. чел.; эстонцы — 110—120 тыс. чел., венды- около 100 000 чел) человек, его богатство в основном заключалось в скудных земельных угодьях, многочисленном лесном звере и развитом собирательстве. Природные условия (обилие лесов и болот) создавали дополнительные трудности как для покорения этих земель, так и для обеспечения регулярного сбора дани.
Однако уже в X в. новгородцы совершали поборы с ижоры и води (финно-угорских, «чудских» племен), в землях которых вдоль реки Луги княгиня Ольга, согласно летописи под 947 г., начала ставить «погосты и дани». Позднее русская экспансия только развивалась. В начале следующего века (ок. 1030 г.) Ярослав Мудрый (в крещении — Георгий, Юрий) поставил крепость, названную в его честь Юрьевым (нем. Дерпт, Dorpat, эст. Тарту, Tartu), в непосредственном центре расселения чуди (эстов) в современной Восточной Эстонии. А его сын Изяслав в 1060 г. расширил новгородское влияние на эстонское племя сосолов, вероятно, занимавших земли на юге Эстонии (область Сакала). К концу XI в. новгородцы фактически контролировали большую часть Северо-Восточной Прибалтики и Карелии, собирали здесь дань и строили погосты.
Южнее новгородских владений, вдоль русла Даугавы, в то же время распространяло свою власть Полоцкое княжество, установившее данническую зависимость для племен ливов (либь) (побережье Рижского залива), латгалов (летьгола) (севернее среднего течения Даугавы), селов (селонов) (южнее среднего течения Даугавы) и земгалов (семигалов) (на запад от нижнего течения Даугавы). Западнее зоны расселения земгалов Полоцк, видимо, не имел возможности регулярно взимать дань. Эти области были заселены воинственными племенами куршей (корсь, куры), вплоть до начала немецкой экспансии остававшимися фактически независимыми от соседей.
Природные условия в Курляндии даже больше, чем в Эстонии, способствовали обособленному положению местных жителей. Побережье практически не имеет удобных естественных гаваней. Речная сеть не создает условий для организации волоков и сквозного водного сообщения через внутренние области…Севернее Даугавы Видземская возвышенность отделяет ее от полноводной речки Гауя (Койва, Coiva, или Лифляндская Аа), в нижнем течении которой, как и на Даугаве, расселялись племена ливов (область Торейда, Thoreyda, совр. лат. Турайда, Turaida). На Западе современной Латвии проживали венды, ушедшие затем, очевидно, в Новгород и Псков.
В отличие от Курляндии, балтийское побережье Эстонии очень изрезано и представляет мореплавателям широкий выбор гаваней для укрытия, зимовки, погрузки-разгрузки и торговли. Уже в IX в. эти места активно посещали скандинавские торговцы и пираты. А начиная с XI в. и миссионеры. Однако они редко углублялись далеко от моря. Во внутренних областях Эстонии претензии на господство были монополизированы новгородцами. Основной магистралью здесь являлась река Эмайыги (нем. Эмбах, Embach), которая впадает в Чудское озеро, а в своих верховьях у оз. Выртсъярв (эст. Võrtsjärv, нем. Wirzjärv, Вирцярв) почти смыкается с притоками р. Пярну, уводящей к Балтийскому морю.
Еще Генрих Латвийский уважительно называл Эмайыгу — Mater aquarum (Матерь вод). Крупнейшие поселения внутренней Эстонии и, соответственно, важнейшие пункты контроля колонизаторов над местным населением расположились вдоль этой водной артерии: в среднем течении Эмайыги — Юрьев (Дерпт, Тарту), чуть южнее в верховьях одного из притоков — Оденпе (Отепя, Медвежья Голова), на озере Выртсъярв — Вильянди (Вилиенди, Вельяд, Феллин), а в устье Пярну — Пернов (Старый Пярну). Реку Пярну в древности не отделяли от Эмайыги: в Хронике Ливонии она и обозначается как Эмбах (Эмайыги). Уровень воды в реках тогда был выше, и они использовались как судоходные (еще в XVI в.), пересекая всю Центральную Эстонию с востока на запад.
Новгородцы не встречали здесь иного противника, кроме местного населения, с которым часто вступали в соглашения на условии уплаты дани или иных услугах. Так, летопись сообщает, что уже вскоре после смерти могущественного князя Ярослава местные эстонские племена восстали (ок. 1061 г.), разрушили укрепления Юрьева и напали на Псков. После этого более чем на полвека контроль в регионе русскими князьями был частично утрачен. Только Мстислав Владимирович в начале XII в. восстановил его в полном объеме. Летопись сообщает о крупном походе новгородцев в 1116 г., когда был захвачен важнейший опорный пункт юга Эстонии Оденпе (Медвежья Голова). Позднее также известны случаи возмущения местного населения. В частности, в 1177 г. эстонцы опять нападали на Псков.
Однако в целом поддерживать свою политическую монополию в Восточной Прибалтике (Финляндия, Карелия, побережье Финского залива, Эстония и Северная Латвия) Новгороду удавалась на протяжении всего XII в. Ситуация обострилась только в начале XIII в., что было вызвано появлениям новых «игроков», претендующих на власть в регионе. В Финляндии и на побережье Финского залива это были шведы и датчане, а в Эстонии по преимуществу немцы, то есть рыцари-крестоносцы и вассалы рижского епископа, обосновавшегося на землях, когда-то подконтрольных Полоцку.
Невооруженному взгляду была хорошо заметна та культурная и административная пассивность, которую проявляли русские в Прибалтике. Ни Новгород, ни Полоцк не шли далее утверждения даннической зависимости. Внутренняя жизнь, административное устройство, религиозные верования и быт местных жителей оставались вне сферы новгородских интересов, а тем более контроля. Даже постоянных военных баз или крупных укрепленных пунктов новгородцы здесь не имели вплоть до начала немецкой экспансии. Архаичный патронаж, осуществляемый русскими княжествами в Прибалтике, не производил впечатления прочного владения, то есть европейцу могло показаться, что племена управляются в этих землях сами, а новгородцы и полочане просто иногда совершает на них набеги, собирают дань и иных претензий не имеют. В общих чертах так и было. Однако на своем праве сбора дани, например, в Финляндии новгородцы уже в XII в. настаивали и демонстрировали это шведам.
Иначе обстояла ситуация в прибалтийских владениях Полоцка. Длительное время у русских здесь не существовало конкурентов даже на побережье. Рижский залив не имеет такого количества естественных гаваней, как Финский. Кроме того, он находился в стороне от главной морской магистрали, связывающей устье Невы с Европой и Скандинавией. Плавание по нему было сопряжено с угрозой грабежа, которым издавна промышляли племена куршей и жители острова Сааремаа.
Большая часть пути, связывающего Балтику с Днепром (по Даугаве), проходила вблизи побережья, населенного племенами, находящимися на более низкой стадии развития как культурного, так и социального. Вероятно, этот маршрут считался менее безопасным и выгодным, чем проходящий через Волхов и озеро Ильмень. Интенсивность движения по нему, очевидно, была ниже. С другой стороны, более близкие межэтнические и межкультурные контакты именно в этом регионе привели к ускорению разложения родоплеменного строя у народностей, населявших берега Даугавы. Именно здесь возникли первые раннегосударственные образования племен балтийской группы.
Полоцк был заинтересован в обеспечении безопасности плавания по Даугаве, а также в упрощении системы взимания дани с местных народностей (ливы, латгалы, селы, земгалы), которые во второй половине XII в. все находились в зависимости от него. Естественно, что территориальные объединения местных племен неизменно поддерживались полоцкими князьями, оказывавшими всяческое содействие прибалтийской социальной верхушке. В данном случае культурные и политические контакты шли рука об руку.
Венды некоторое время жили на Древней горе (Mons Antiquus) или Рижской горе (Mons Rige) на территории нынешней эспланады. Возле горы были песчаные дюны и лес, поэтому Ливонская рифмованная хроника и Ливонская хроника эту местность характеризует как песчаную возвышенность, а в XIV веку на горе находились бортья. Упомянутый холм очевидно, служил для местного населения укреплённым городищем.
Неизбежно поэтому было то, что первые местные раннегосударственные образования оказались в вассальной зависимости от Полоцка и в зоне распространения русской, то есть восточнохристианской, культуры. Известны два таких центра, которые располагались в укрепленных поселениях Кукенойс (Kukenoys, латыш. Кокнесе, Koknesē, нем. Кокенгузен, Kokenhusen) и Герцике (Gercike, латыш. Ерсика, Jersika). Зафиксированные как по письменным источникам, так и по археологическому материалу, эти княжества различались и по этническому составу жителей, и по социально-экономическому развитию.
Крупнейшим было Герцике, столица которого располагалась в среднем течении Даугавы в 180 км ниже Полоцка. Замок занимал на правом берегу реки овальной формы площадку (70×100 м), возвышающуюся на 14 м от уровня воды. Севернее него находился обширный посад. Раскопки показали, что городище было основано примерно в X в. латгальскими племенами, составлявшими и позднее его преимущественное население. Герцике распространял свою власть почти на все латгальские земли (Аутине, Ерсика, Цесвайне и др.), кроме самых северных Талавы (Taiava) и Адзеле (Atzele), представлявших собой иные территориальные объединения, зависимые от Новгорода (и Пскова).
Этническая принадлежность княжеской династии Герцике остается предметом споров.
Единственный известный местный князь носил славянское имя Всеволод (Vissewalde). По сообщению Генриха Латвийского (под 1209 г.) можно понять, что в замке Герцике находилась православная церковь. Он же свидетельствует, что как князь, так и его ближайшее окружение (дружинники) были исключительно православными. Многочисленные находки свидетельствую о давнем, начиная со второй половины XI в., знакомстве местного населения с греческим христианством.
В целом, следует говорить, что, при наличии очень широкого и интенсивного русского культурного влияния в Герцике, мы не располагаем археологическими данными, указывающими на присутствие в городе постоянного славянского населения. Иначе обстояло дело в Кукенойсе, где совершенно ясно прослеживается массовое присутствие русских жителей. Археологами вскрыта даже жилая постройка с завалинкой у внешней стороны стены — характерная для Руси особенность, но нигде более не встреченная на территории Латвии. Обнаружены также остатки каменной постройки XII в., «гипотетически отождествляемой с православным сакральным строением», и рядом фрагмент колокола.
Кукенойс располагался также на правом берегу Даугавы, но значительно ниже по течению, примерно в 100 км от устья. Городище занимало мыс при впадении небольшой речки Персе (ранее — Кокна). Его положение обуславливалось наличием удобной переправы через Даугаву, обеспечивающей сухопутное сообщение между областями расселения латгалов и селов. Три этнические группы (латгалы, селы, русские) и образовали основную составляющею населения Кукенойса. Археологические раскопки А.Я. Стубавса в 1961—1966 гг. обнаружили, что уже в X в. здесь существовало укрепленное поселение с плотной внутренней застройкой. О значительном росте поселения в исторический период говорить не приходится. Княжение в Кукенойсе всегда оставалось небольшим, включающим лишь ближайшую округу. В политическом отношении оно, вероятно, примыкало к Герцике и составляло особый замковый округ.
Речь идет о поселении, преимущественной функцией которого было обеспечения безопасности торговых путей, пересекающихся в этом месте. Не удивительно поэтому, что в числе жителей присутствовали и русские, представленные здесь, в отличие от Герцике, в основном княжескими дружинниками. Об этом свидетельствуют не только археологические материалы, но записи очевидцев, таких как Генрих Латвийский, называвший Кукенойс (Kukenoys) «русским замком» (castro Ruthenico), а Герцике (Gercike) преимущественно «городом» (civitatem).
Единственный известный по письменным источникам князь (rex) Кукенойса носил славянское имя Вячко (Vetseke, Вячеслав) и правил здесь в начале XIII в. Впервые его упоминает Генрих Латвийский под 1205 г. Существуют предположения, основанные на уникальных сведениях В.Н. Татищева, согласно которым Вячко возводит свою родословную к полоцким Рюриковичам. Однако ход событий демонстрирует нам его только в качестве военачальника и вассала князя Владимира Полоцкого, после смерти которого мы обнаруживаем Вячко на службе в других землях.
В 1208 г. Кукенойс был захвачен немцами, и Вячко вынужден был уступить часть замка вражескому гарнизону. Но в том же году, не выдержав притеснений, вырезал всех немцев, сжег город и с остатками дружины отступил на Русь. Возможно, он участвовал в приготовлении большого наступления на немецкие владения в Прибалтике, которое планировал в 1216 г. князь Владимир Полоцкий. Однако в том же году полоцкий князь внезапно умер, и поход не состоялся. Позднее Вячко возглавил оборону Юрьева (Тарту) и был убит немецкими рыцарями при его штурме в 1224 г. Можно сделать предположение, что после 1216 г. Вячко уже не считал себя подданным Полоцка, но выступал в качестве самостоятельного военачальника, причем развивал свою деятельность в новгородской зоне Прибалтики (в Эстонии).
Нет никакого сомнения, что Полоцк принимал активное участие в создании и усилении первых прибалтийских территориальных объединений.
Основным источником по истории княжества является «Хроника Ливонии» Генриха Латвийского. Согласно Хронике, в княжестве правил Всеволод или Висвалдис (лат. Vissevalde, Wiscewolodus), находящийся в вассальной зависимости от полоцкого князя, затем от рижского епископа. Всеволод происходил из полоцкой ветви Рюриковичей, однако точное его происхождение не установлено.
Расположение Ливонии на пути «из варяг в греки» способствовало интенсивному движению торговцев по Западной Двине. Для их защиты и взимания дани на берегах реки в XII веке полоцкими князьями были поставлены крепости Герсик (Герцике, ныне Ерсика) и Кукейнос (ныне Кокнесе). В Герсике, по свидетельству Генриха Латвийского, имелись православные храмы с фресками, богато украшенными иконами и утварью из драгоценных металлов. 1184 году католический миссионер Мейнард фон Зегеберг получил от полоцкого князя Владимира разрешение проповедовать на землях подчинённых ему ливов. Однако преемники Мейнарда начали принудительно обращать местное население в христианство, требуя уплаты десятины церкви, это стало причиной конфликтов между балтийскими племенами и крестоносцами, которые вначале обращались за посредничеством к полоцкому князю Владимиру.
После завоевания католическими колонизаторами соседнего Кукейносского княжества владения Всеволода стали граничить с землями епископа Риги и стали следующей целью завоевания.
Осенью 1209 года, разбив дружину Всеволода при внезапном нападении, крестоносцы захватили Герсик. Сам Всеволод спасся на противоположном берегу Двины и оттуда наблюдал, как горит его город, но его жена и дочь попали в плен. Епископ Альберт предложил Всеволоду мир, возврат пленных и захваченного имущества, но тот должен был передать ему половину своего княжества, избегать общения с язычниками-литовцами, сообщать о планах русских. У Всеволода не было другого выхода, как согласиться с этими условиями и получить свои бывшие владения в лен. Однако поскольку его жена была дочерью литовского князя Довгерда, сотрудничество с литовцами, включавшее и взаимную военную поддержку, возобновилось. Из-за этого нарушения договора крестоносцы в 1213 году напали на Герсик и разграбили его. В следующем году они попытались повторить набег, но подоспевшие литовцы их перебили. После смерти Всеволода (до 1239 года) его владения были окончательно переданы Рижскому архиепископству.
По преданию, уцелевшие русские жители крепости Герсике переправились на левый берег Двины и поселились среди курляндских жителей. Именно от этих беглецов якобы берёт своё начало русская слобода, которая по указу курляндского герцога Якоба (1670) стала городом, названным в его честь Якобштадтом (ныне Екабпилс). Здесь в 1675 году возвели православную Святодуховскую церковь, где хранилась древняя плащаница XIV—XV веков
Полоцкие князья не располагали значительными материальными средствами для расширения своей власти в регионе. Их интересы ограничивались регулярным сбором дани и предоставлением военной помощи в случае необходимости. Русские властители часто демонстрировали плохое знание международной ситуации, допускали крупные внешнеполитические ошибки и проявляли дипломатическую близорукость. Объяснения тому были, но их объем остается явно недостаточным для оправдания многочисленных примеров пассивности полоцких князей, приведших в короткие сроки в начале XIII в. к утрате своей зоны влияния в Прибалтике, а затем и к потере большей части своих исконных земель. Полоцкие князья не смогли опереться и на местных вендов.
Преследованные куршами, в начале XII века венды кратковременно переселяются в Ригу, а потом оседают в Цесис, где строют городище Wendorum castrum. Зимой 1209/1210 года венды совместно с магистром Бертольдом и латгальским правителем Русcином отправляются в военный поход против Эстонии: «После этого, по истечении срока перемирия, заключённого с жителями Унгавнии, Бертольд, магистр рыцарства в Вендене, призвав Руссина с эго лэттами, а также и других лэтов из Аутинэ, вместе со своими вендами, пошёл в Унгавнию» 1210 году большое войско эстонцев окружает деревъянное городище, где меченосцы в то время жили с вендами: «Эсты бились с Бертольдом, его братьями и вендами три дня у старого замка, где ещё жили братья и венды… Летом 1225 года папский посол Вильгельм Моденский путешествуя по Ливонии, отправился в Венден и был принят «братьями-рыцарями, жившими там тевтонами, и нашел величайшее множество вендов «…