В прошлой части мы остановились на том, что главный архитектор первой части Итальянских войн – Родриго Борджиа – папа Александр VI умер. После этого планы его рухнули, а перспективы и итоги конфликта оказались совсем не такими, какими мыслились, пожалуй, главному его инициатору. Но непосредственно в момент гибели понтифика у его главного наследника – Чезаре, был он причастен к ней, или нет, очевидно, ещё не было ощущения катастрофы. Возможно, её и в самом деле удалось бы избежать, если бы и его крепкий организм не потратил на восстановление так много времени.
Папа умер – да здравствует новый папа. Как и множество раз до того, конклав кардиналов начал собираться в Риме, чтобы избрать преемника на кафедру святого Петра. Чезаре и вообще сторонники Борджиа были убеждены – они без особенных проблем смогут поставить своего кандидата. Как они рассуждали? Во-первых, и в прежние времена и, тем более, теперь, отцы церкви были сильно подвержены греху симонии, а иными словами взяточничества – даже должность папы теоретически можно было купить, договорившись персонально с наиболее влиятельными из обладателей красной шапки благо денег у рода Борджиа было много. Во-вторых, окрестности Рима плотно контролировали войска полностью верные и преданные Чезаре. Они сражались с ним в центральной Италии, видели, на что он способен, верили в него, а некоторые, похоже, даже преклонялись, как некогда легионеры перед настоящим цезарем. И, конечно, Чезаре был для них “рукой дающей” – как мы помним, его 10 000 солдат были, по сути, первой постоянной армией в регионе – армией, которой он регулярно платил (что дополнительно способствовало ещё и дисциплине). Так что главнейший из оставшихся Борджиа мог, кажется, быть полностью спокоен – подкупом или запугиванием, но своего кандидата он протолкнёт.
Если он и в самом деле так думал, то он явно сильно уступал по части стратегического видения своему отцу. За время своей силы Борджиа успели перейти дорогу очень многим – и многих просто оставили валяться в придорожных канавах. Их боялись, но страх не всегда ведёт к покорности. К моменту смерти Родриго (ещё один важный его успех) Церковь стала гораздо более управляемой, чем в совсем ещё недавнем прошлом. Крыса была загнана в угол – властные претензии старых итальянских аристократических родов, которые давно и прочно привыкли иметь своего кардинала, более не учитывались – и Родриго был готов, если крыса решит броситься из угла, прихлопнуть её. Когда он умер, то ярость у “крысы” осталась, но ещё она почувствовала слабость – и нанесла удар. Все враги рода Борха выступили сообща. Но и это не было главным. Важнее всего остального, в том числе и персонально Борджиа с их аппетитами, для Церкви был вопрос о соотнесении себя со светскими властями. Великая борьба периода гвельфов и гибеллинов окончилась ничем – папы не сумели подчинить императоров и вообще сделаться главными сюзеренами христианского мира, но и императоры и другие светские властители не сумели поставить на трон апостола-ключника свою пяту. Чезаре проиграл ещё и по той причине, что, как это ни парадоксально, шёл в папы не сам. Одно дело – это на некоторое время усилившийся род, которые несколько раз проводит своего кандидата через конклавы – и совсем другое – светский господин, который произвольно решает, кому быть новым понтификом. Некоторые кардиналы, прежде всего те, которые представляли неитальянские епархии, могли бы даже поддержать (особенно за деньги) нового Борджиа – им не было особенного дела до того, кто будет преобладать в Италии. Но вот на что они пойти не могли – так это согласиться на появление некоей светской династии, которая из поколения в поколение будет самовластно и ультимативно ставить своих людей на папский престол. А ведь именно к этому и вел, в конечном счете, дело Чезаре – и почти уже того не скрывал – к появлению своей сильной власти над большей частью полуострова, которая будет (пусть, конечно, и не формально) находиться выше папы.
Хуже всего для Чезаре же было то, что он даже не мог, в крайнем случае, оставить свои светские мечты, войти в лоно матери-Церкви, в рекордные сроки произвести себя в кардиналы, а потом и папы – это и само по себе было бы сложно и сильно наступало бы на горло его мечтам, но даже и резервная возможность чего-нибудь подобного у него отсутствовала. Ведь он уже был священником и даже кардиналом – был и сам покинул эту стезю. Возврат теперь означал бы полное крушение всех церковных устоев – и тоже очень важную, слишком большую уступку в вопросах о соотношении церковного и светского, чтобы это могло стать реальным.
Наконец, произошло нечто ещё худшее для так и не состоявшегося Цезаря – только что враждовавшие открыто монархи Испании и Франции пытались заключить мир. Они его в итоге и заключили, как мы помним, 31 января 1504, но до того и тот и другой успели… привести армию под стены Вечного города, чтобы поддержать своего кандидата в папы! То, что при Родриго было немыслимо, быстро становилось реальностью – причём основным мотивом, вероятно, был страх пред перспективой, что новый папа скажет свое слово в поддержку противной стороны. При живом, дееспособном и умном понтифике попытка вторжения привела бы к тому, что он нанёс бы могучий удар по одному из противников и быстро договорился со вторым, используя общего врага как главный рычаг. Сейчас, при том, что папское государство было теперь сильнее, чем когда-либо прежде, ни французов, ни испанцев никто не останавливал. В итоге в окрестностях Рима стояло сразу три армии – к уже упомянутым нужно добавить армию Чезаре – и ждали что будет, бряцая, но с осторожностью, оружием, в знак поддержки. В иной ситуации Чезаре мог бы даже решиться напасть на одного из противников, но сейчас это значило бы сорвать конклав и окончательно заставить вопрос о новом папе повиснуть в воздухе, что для генерал-капитана Церкви было недопустимо. В конклаве участвовали 39 кардиналов (21 итальянский кардинал, 11 испанских и 7 французских). Поначалу ни один кандидат не получил большинства голосов. В итоге же победил, как это нередко бывает в подобных ситуациях, вынужденный компромисс – папой стал Франческо Нанни Тодескини-Пикколомини – уроженец Италии, не ставленник Борджиа, но вполне лояльный к роду человек, принявший при интронизации имя Пий III.
Ему было 64, но он уже был крепко болен – многие понимали, что слишком долго место своё занимать он не будет. Интересы его были достаточно мирные и он, кажется, действительно, во что то верил. Коронация состоялась 8 октября 1503 года. Чезаре, вероятно, скрипел зубами, французы и испанцы вздыхали со смесью облегчения и разочарования, но… Пий III руководил Святым престолом недолго — всего 27 дней! Причём можно сказать почти что “не приходя в сознание” — длительные церемонии посвящения и коронации так утомили Пия, что он слег в постель. Пий III успел, однако, отдать приказ об аресте Чезаре Борджиа — и вскоре скончался. Современные ему хронисты утверждали, что Пий III был отравлен – надо думать, так полагал и он сам, раз отдал приказ в отношении Чезаре, но доказательств этому утверждению пока не найдено и едва ли они правдивы. Наибольшая вероятность – смерть была ввиду естественных причин. Другой, тоже вполне реальный вариант – яд был, но не от Чезаре, который едва ли стал бы рисковать так, когда войска интервентов ещё не до конца вышли с папской территории, а одного из конкурентов в борьбе за тиару.
Так или иначе, но были назначены новые выборы. Они могли бы стать новым (и последним) шансом для Чезаре, но он допустил последний фатальный промах. Теперь речь для него уже не шла о победе – скорее о выживании и в идеале сохранении поста гонфалоньера Церкви. На новом конклаве основными кандидатами стали француз кардинал д’Амбуаз – близкий советник короля, а с другой стороны – Джулиано делла Ровере – тот самый неудачливый соперник покойного Родриго и за папский трон и за Ваноццу деи Каттанеи. Испанцы почему-то не составили такой сильной партии – возможно, их в принципе опасались – в первую очередь как раз после опыта с Борджиа. Французский кандидат всё же казался слишком близким к правящему дому – некоторым всё ещё было памятно Авиньонское пленение пап и период полного преобладания французов, так что постепенно кардиналы-выборщики стали склоняться на сторону делла Ровере. Чезаре из-за продолжающейся болезни мог влиять на события ограниченно, но всё же мог – тем более, что армии французов и испанцев уже успели уйти. Военная сила была его последним и решающим козырем. Если бы он знал что будет дальше, то почти наверняка немедленно бы нанёс удар, невзирая на риски. Вместо этого он, однако, через своих людей вышел на делла Ровере и договорился с ним о поддержке в обмен на обещание (претендент на тиару дал его публично) сохранить за Чезаре руководство над войсками Церкви. Сам кардинал тоже не сидел на месте, активно возобновляя старые связи и подкупая других членов конклава. 1 ноября 1503 делла Ровере стал папой Юлием II и… немедленно отрёкся от собственных слов. Вместо этого он так же публично заявил, дав волю давно копившимся чувствам и торжествуя месть:
Я не буду жить в тех же комнатах, где он [Александр VI] осквернил Святую Церковь, как никто до него, узурпировавший папскую власть за счет помощи дьявола… Я запрещаю под страхом отлучения от церкви говорить или думать о Борджиа снова. Его имя и память должны быть забыты. Он должен быть вычеркнут из каждого документа. Его правление должно быть уничтожено. Все портреты Борджиа должны быть покрыты чёрным крепом, все гробницы Борджиа должны быть вскрыты, а их тела отправлены обратно туда, откуда они пришли — в Испанию
Вслед за этим он распорядился арестовать Чезаре и отправить в Остию, чтобы герцог сдал людям нового Папы все принадлежащие ему замки. В этот момент жизнь Чезаре висела на волоске – очень многие желали его гибели, а сам папа не казнил его сразу только по той причине, что боялся, что армия Чезаре откажется исполнять его приказы и все завоёванные при пусть и ненавистном, но успешном Александре VI территории разом пропадут. В это время, к слову, сложнейшая дилемма встала перед той самой 10 000 армией, с которой Борджиа покорял Центральную Италию. В сущности, если бы они сразу выказали покорность новому Папе и его решениям, то вопрос о жизни или смерти Чезаре больше бы не стоял. Однако, они сомневались – одни пытались прикинуть кому в этой ситуации служить будет выгоднее, что уже было непросто, а другие, возможно, оказались под влиянием и более сложного морального выбора – что предать – верность матери-Церкви, или верность своему испытанному командиру. Чезаре сидел в тюрьме, его сила разом кончилась, его средства больше не были его средствами – почти все те богатства, которым он ещё так недавно распоряжался совершенно свободно, были богатствами Церкви. И всё же солдаты, или, во всяком случае, существенная их часть, из расчёта, убеждений или верности продолжали медлить. В итоге Чезаре удалось вырваться и даже добраться до Неаполя, уже прочно находившегося под испанским контролем, где он связался… с Гонсало де Кордобой – Гранд Капитаном. Тот уважал Чезаре как воин воина, понимал, что при его помощи и помощи Испании тот вполне может вернуться в Рим. По некоторым свидетельствам к тому же они уже знали друг друга раньше и были почти приятелями. Но король Испании не хотел ссоры с новым папой, опасаясь, что тот тогда ринется на сторону французов. Руководствуясь исключительно интересами испанской короны, де Кордоба заключил Чезаре под стражу и отправил в Вильянуэва-дель-Грао в Испании, где герцога Валентинуа и заключили в замок Ла-Мота, желая сохранить хорошие отношения с папой делла Ровере.
Судя по всему, перед ним тоже стоял весьма нелёгкий выбор, и он тоже сделал его не без труда, скрепя сердце. На этом мы временно оставим Чезаре, который успел за считанные месяцы потерять всё то, чего достигал всю жизнь, и поговорим о Юлии II.
Родриго Борджиа был человеком порочным – но и гениальным. У Юлия II, кажется, на гений или что-либо ещё места просто не оставалось: хитрый, но довольно примитивной, двухходовой хитростью, жадный, мстительный, лживый – и это далеко не полный комплект эпитетов. Согласно апокрифу в момент избрания – едва ли не надевая папское облачение, Юлий якобы произнёс фразу, которую, в общем, он мог в действительности в этот момент и не сказать, но которая отлично характеризует его последующее правление: “Господь даровал нам папство – будем же им наслаждаться!”. Ни один из пороков предшественника (кроме, возможно, инцеста) не обошёл и Юлия – он пристроил на сытые места в Риме всех своих внебрачных детей, он сделал своего племянника кардиналом, вот только ни его родня, ни он сам не обладали размахом Борджиа. Ещё папа был гомосексуален. Или нет, вернее будет сказать, бисексуален – с женщинами он сходился тоже, иначе не появилось бы детей, но молодых юношей предпочитал всё же больше. Само по себе это бы ещё не так страшно, но ему хватило ума возвысить одного из них до положения самого настоящего фаворита, который получил вполне реальные властные полномочия и умудрился просрать важную для папы битву. Впрочем, об этом мы ещё поговорим.
Юлий II, естественно, как уже все, надеюсь, поняли, был не ровней Родриго Борджиа, но власти и влияния он хотел не меньше. И если пытаться усиливать его за счёт Франции или Испании, их владений и клиентов в Италии он откровенно боялся, то вот завоеваний Чезаре отдавать не желал, напротив – был весьма не прочь их приумножить. Как только всё же удалось получить контроль над армией, плюс в 1506 году Святой престол впервые напрямую заключил договор со швейцарцами (что и считается теперь моментом основания швейцарской гвардии папы), Юлий принял решение спровоцировать новую войну, тем более, что как ему показалось, его смертельно оскорбили – а чего-чего, а недостаточного формального пиетета перед своей персоной, отказа в тех или иных почестях, новый понтифик не прощал.
Другой причиной, конечно, было золото. Новым врагом должна была стать (и стала) богатейшая Венецианская Республика. Но о ней, о том, как в войну были вовлечены другие силы и как она развивалась – в следующей части.
Источник — https://dzen.ru/a/Y8ZKBchJqEJphgEO








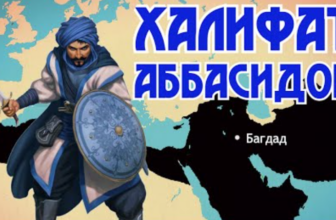
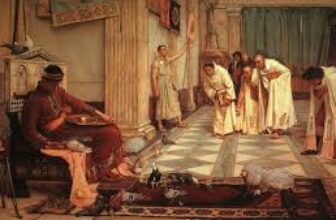
бужанский не первый, кто пытается переписать историю предательства мазепы. последним на моей \памяти был денис селезнев
https://youtu.be/JnKcpV1_FDg
Почему-то вспомнилось это:
Велеслав (по паспорту — Петя), ударник рок группы, играющей славянский паган-металл, попадает в Санкт-Питербурх 1707 года. Пойманный солдатами Преображенского полка, Велеслав пытается объяснить, что много знает и может быть полезен государю Петру Алексеевичу, тем более, что его с грехом пополам понимают. К сожалению, будучи развязан и получив в руки доску с грифелем, Петр-Велеслав не может решить задачу о том, сколько пудов пороху нужно на батарею четырехфунтовых пушек на пятьдесят залпов. О грядущих событиях Велеслав знает только то, что где-то должна произойти Полтавская битва со шведами, но в каком конкретно месте и когда он не помнит. После того, как юный музыкант говорит поручику, что кавалер ордена Андрея Первозванного, Войска Запорожского обеих сторон Днепра гетман Мазепа — предатель, вызванный в караулку майор Шереметьев приказывает вздернуть юношу на дыбу и допытаться, кто подучил клеветать на верного государева слугу. Одновременно майор велит послать доложить своему отцу, но пока солдаты бегут к графу, Петя умирает от разрыва сердце в грубых руках палача.
https://ru-scifi.livejournal.com/1158373.html
было на сайте
http://alternathistory.ru/nebolshaya-mysl-o-sbornike-rasskazov-pro-popadantsev/
Ага
С исторической точки зрения, мотивация не имеет значения. Есть факт предательства союзника, покровителя и друга. Для нормальных людей — это однозначный позор. Для кастрюлеголовых майданутых идиотов — предательство — это хероизм. Бог им судья.
Как обычно в истории нет ни однозначно плохих ни однозначно хороших. Люди многогранны. А что там было 300 лет назад вообще полный мрак. Одно известно точно что Мазепа не был ни каким патриотом Украины он даже такого понятия не знал. Да и делать из Малороссии какое то независимое государство он так же не планировал.
Человек варьировал между сильными мира сего пытаясь при этом заработать и украсть как можно больше. Кроме личных интересов ни каких более интересов Мазепа не преследовал. На геройство это уже точно не похоже, как впрочем и на патриотизм.
Но судя по этому материалу, сначала предали его, отказавшись предоставить помощь, полагавшуюся по договору?
P.S. Первый раз вижу, чтобы за ВОПРОС минусовали…
Ну, во первых, было бы неплохо сперва ознакомиться с полным текстом того договора. Наверняка там есть какие-то оговорки для предоставления помощи. Тем более что никаких «лишних» 10 тысяч у Петра наверняка не было.
Во вторых — Пётр, не тот человек, который мог «кинуть» не просто союзника, а человека которого искренне считал другом и на которого очень надеялся в той войне.
мы в курсе, что украинский манере читать юридические документы
не первый век
++++++++++
Усё красиво, вот токо в Украине досих пор власть, тем более висшая ВИБОРНАЯ!!!! И никак и ничей син не МОГ наследовать тогда место гетьмана!!!!
Ну да, почтенный коллега, весь мир с замиранием сердца наблюдал, как свергнув законно избранного президента, майдан «голосовал» за кандидатуры, предварительно утверждённые в американском посольстве…
Выборная власть как раз в России — или Вы как те наши демшизики, сомневаетесь, что Путин выигрывал выборы?
уважаемые коллеги, повторюсь. обсуждаем прошлое и завязываем с политотой. в противном случае обсуждение на ветке будет закрыто