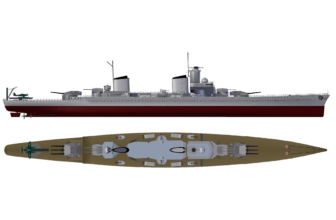«Глаголь» над Балтикой (Глава 7)
Предыдущая глава тут, самое начало — тут.
— И приснится же эдакая дрянь! – пробурчал себе под нос Николай, сопроводив сие глубокомысленное замечание доброй затяжкой душистого английского «Кэпстена».
В самом деле, если раньше сны о Цусиме возвращали кавторанга в его же собственные воспоминания, то сегодня впервые ему привиделось совершенно другое – как будто его дух ненадолго встал за плечом командующего русской эскадрой, Зиновия Петровича Рожественского, получив привилегию чувствовать и знать мысли погибшего адмирала. Николай ни на йоту не верил в спиритизм, оттого было интересно – что же на самом деле думал и чувствовал тогда Зиновий Петрович, а что домыслило за него спящее сознание кавторанга Маштакова? Впрочем, все это не более чем досужие размышления, ответа на которые никогда не будет. Адмирал, не покинувший свой флагман, спал вечным сном на дне Корейского пролива, не оставив после себя никаких дневников или записей.
Удивительна была масштабность батальных полотен, привидевшихся Николаю – сам-то он, хоть и участвовал в сражении, но видел немногое и уж точно ничего такого, что снилось ему сегодня. Он командовал одной из шестидюймовых башен правого борта и просидел в ней, ничего толком не разглядев, всю завязку боя. Он не мог наблюдать гибели «Асамы», сосредоточившись на стрельбе по «Ивате», но вид осевшего на корму по самую верхнюю палубу японского броненосного крейсера, по которому он вел огонь, остался одним из немногих радостных воспоминаний давно отгремевшей битвы.
К сожалению, на этом хорошие воспоминания заканчивались. Следующее, что увидел Николай — гибель «Князя Суворова», превращенного огнем японцев в едва держащуюся на волне огневеющую руину. Его изломанные очертания, еле различимые в клубах иссиня-черного дыма, очередной удар в район шестидюймовой башни, сильный взрыв… Огромный, охваченный огнем корпус повалился на правый борт, перевернулся и быстро ушел в пучину.
Эскадру повел вперед «Александр III», но ему и до того уже прилично досталось, а японцы не давали передышки.
Ненадолго отступившие корабли Того вновь обрушились на голову русской колонны, и поделать с этим было уже ничего нельзя. Теперь корабли Объединенного флота, пользуясь превосходящей скоростью, появлялись на острых курсовых углах впереди эскадры и сосредотачивали свой огонь на головных русских броненосцах, разрывая дистанцию всякий раз, как только создавалась угроза попасть под концентрированный огонь русских кораблей. Это была беспроигрышная тактика – медленно, но верно японцы выбивали один русский броненосец за другим. К вечеру эскадра потеряла «Александр III», следующий за ним «Бородино», на котором находился Николай, оказался совершенно избитым, а почти вся его артиллерия была приведена к молчанию. Досталось и последнему из четверки броненосцев первого отряда — «Орлу», но его повреждения не были фатальными и боеспособности корабль не потерял. То же можно было сказать и о флагмане второго отряда «Ослябе», хотя корабль и прилично сел носом. Контр-адмирал Фёлькерзам сперва порывался выйти в голову колонны, чтобы вести эскадру – но из-за принятой воды «Ослябя» сильно отяжелел и не мог развить полного хода. Неугомонный Дмитрий Густавович попытался пересесть на крейсер «Изумруд», с тем, чтобы тот доставил его на головной броненосец, но по ряду причин сделать этого не удалось.
В сумерках дуэль бронированных гигантов завершилась, однако теперь над русской эскадрой нависла новая угроза — в сгущающемся мраке, со всех сторон скользили многочисленные и смертоносные силуэты японских миноносцев. Не слишком опасные днем, когда тяжелому кораблю несложно отогнать узкие, собранные, казалось, из одних только машин и торпедных труб кораблики, в темноте они обретали способность губить самые большие броненосцы.
Фёлькерзам наконец-то вывел «Ослябю» в головные и теперь вовсю командовал эскадрой, но что ему было делать? Спасти от вражеских миноносцев могла только удача и вера в то, что впотьмах курсы русских броненосцев разойдутся с японскими флотилиями. Только вот шансов на то чтобы ускользнуть от десятков быстроходных кораблей практически не было. Они знают, что русская эскадра идет во Владивосток и не пропустят ни пяди морского пространства, перекроют все пути…
И в этом Фёлькерзам видел свой шанс. Вместо того, чтобы идти во Владивосток, на север, Дмитрий Густавович повел избитую эскадру на юг и провел ночь, маневрируя на малом ходу между островами Ики и Окиносима. Искать его там командирам японских миноносных флотилий не пришло в голову, но был в этом маневре и другой расчет.
Фёлькерзам понимал, что хотя «по очкам» русская эскадра и выиграла сегодняшнюю схватку, потеряв два броненосных корабля против трех японских, но второго такого боя эскадре не пережить. «Ослябя» и «Орел» недолго продержатся против сосредоточенного огня японских пушек, а затем начнется избиение «стариков» второго и третьего броненосного отрядов и все, что они смогут сделать, так это умереть с достоинством. С другой стороны, маниакальное упорство, с которым русские весь день шли на север, наверняка заставит японцев думать, что и ночью они с курса не свернут, так что Того наверняка расположит свои главные силы там, где по его расчетам могли бы оказаться русские утром – чтобы встретить их и довершить дело, имея в запасе полный световой день. Учитывая скорость русской эскадры, японский адмирал будет ждать ее где-то между островами Оки и Дажелет. Но Фёлькерзам не собирался подыгрывать Хейхатиро Того и не повел эскадру на заклание. Его план заключался в другом.
Уйти на юг из под удара японских миноносцев и оказаться к утру совсем не там, где ждет его Того. С рассветом же снова взять курс во Владивосток. Конечно, избежать боя с главными силами Объединенного флота нельзя, но можно попробовать оттянуть неизбежный поединок до вечера, возможно, это даст шанс, потеряв еще несколько кораблей продержаться до наступления темноты. И тогда – идти во Владивосток. Опасаться вражеских миноносцев будет уже не нужно, по крайней мере, не настолько, как сейчас. Они сегодня за ночь и за завтрашний день уголь пожгут так, что доброй половине понадобится бункеровка, придется бежать в родные пенаты.
Идти во Владивосток сейчас – смерть. А так, быть может, прорвется хоть половина эскадры… Узнав адмиральский план механики чуть не попадали в обморок – угля для такого маневра, в общем, хватало, но только при условии что в грядушем бою дымовые трубы броненосцев сильных повреждений не получат. Ну а если будет как на «Бородино», у которого обе трубы напоминали ситечко, то тяга упадет, расход угля подпрыгнет до немыслимых величин и эскадра замрет, подобно парусникам прошлого в штиль, на полпути к Владивостоку. «Бородино», кстати, в любом случае придется тащить на буксире. Но Фёлькерзам был тверд в своем решении.
Рассвет не принес добрых известий. Из десяти русских кораблей главных сил к утру осталось только восемь – куда-то пропали два броненосца. Их судьбу узнали много позднее: «Николай I» нашла японская торпеда, от этого он сильно потерял ход, отстал от эскадры и к утру пошел ко дну. «Наварин» потерялся еще раньше и также был подорван японскими миноносцами.
Теперь главные силы эскадры составляли изрядно побитые «Орел» и «Ослябя», старый и невеликий размерами броненосец «Сисой Великий», да еще более старый броненосный крейсер «Нахимов» с древними пушками. Их могли поддержать три броненосца береговой обороны, третьего броненосного отряда, но боевая ценность этих корабликов стремилась к нулю. Один флагманский «Микаса» был крупнее «Сенявина», «Апраксина» и «Ушакова» вместе взятых. Единственный козырь этих «броненосцев» — новые десятидюймовые пушки главного калибра, были сильно изношены еще до выхода с Балтики, а после вчерашнего сражения и вовсе расстреляны почти до предела, сильно потеряв в дальности, точности и скорости стрельбы. Так что поддержки от них следовало ожидать в основном моральной, а «Бородино» не мог оказать даже и таковой – все орудия главного и среднего калибра, за исключением одной шестидюймовой башни, были приведены к молчанию. Транспорты, сопровождавшие эскадру, исчезли без следа. Вместе с ними пропали и все крейсера, за исключением «Изумруда».
Фёлькерзам повел остатки эскадры во Владивосток и, в общем, его план сработал, как он того и хотел – главные силы японского флота перехватили его только четырем тридцати пополудни. Увы, остатки русских сил это не спасло. Меньше чем через 40 минут после начала боя «Ослябя», не в силах справиться с поступлением воды, вышел из строя, повалился на левый борт и затонул, еще около часа понадобилось японским комендорам, чтобы совершенно разбить «Орел», хоть тот не покинул место головного русской колонны.
Однако японцы чувствовали, что добыча ускользает из рук, сумерки были не за горами, так что на долгое маневрирование с выбиванием русских головных по одному времени не было. И Хейхатиро Того, презрев возможные потери, яростно атаковал остатки второй тихоокеанской эскадры, сойдясь с ней едва ли не на пистолетный выстрел и обрушив всю мощь орудий на потрепанные русские корабли.
Вскоре все было кончено. «Сисой Великий» потопили артогнем, «Адмирал Нахимов» добили торпедами, «Орел» же, исчерпав возможность продолжать бой, но оставаясь еще на плаву, сам открыл кингстоны. Лишь трем кораблям главных сил русской эскадры повезло ускользнуть в ночь. «Ушаков», получивший повреждения и севший носом, отстал, а на следующий день героически сражался с перехватившими его крейсерами и погиб. «Сенявину» и «Апраксину» удалось-таки пройти во Владивосток, где их уже ждала пятерка прорвавшихсяя крейсеров: «Алмаз», «Изумруд», «Олег», «Аврора» и «Жемчуг». Увы, не считая нескольких миноносцев, это было все, что осталось от второй и третьей тихоокеанских эскадр Российской империи.
Правда и японцам сильно досталось. Понеся тяжкие потери в первый день сражения, Объединенный флот, тем не менее, не добился победы. К вечеру второго дня русская эскадра была уничтожена почти полностью, но только чудом можно было объяснить, что главные силы Того убереглись от потерь. Двенадцатидюймовый снаряд пробил башню «Токивы», взрыв должен был детонировать хранящиеся в ней боеприпасы, но… снаряд не разорвался. Еще один двенадцатидюймовый, проложив себе дорогу сквозь сталь и броню, вошел прямо в кочегарку флагмана Камимуры — броненосного крейсера «Идзумо». Сработай взрыватель как должно, котел взлетел бы на воздух, и этого наверняка хватило для сильно избитого русскими снарядами корабля, но – взрыва опять не последовало. Главным силам Объединенного флота сильно повезло в этом бою.
Но все же русские моряки смогли добыть еще один трофей. Еще до того как потрепанные корабли Фёлькерзама вновь сцепились с врагом, старый броненосный крейсер «Дмитрий Донской», заблудившийся ночью, а теперь шедший в одиночестве во Владивосток оказался перехвачен шестью крейсерами адмирала Уриу. Русский крейсер принял безнадежный бой и… умудрился подержаться до ночи, подбив к тому же два вражеских крейсера. Уже в сумерках японцы бросили в атаку миноносцы, но успеха не достигли, а «Дмитрий Донской» еще и потопил одного из своих «загонщиков». Конечно, самого «Дмитрия» это не спасло – избитый крейсер, достойно сражавшийся при столь неблагоприятных обстоятельствах, получил повреждения, с которыми никак не мог справиться. Ночью он затонул у острова Дажелет, правда лишь после того, как его покинула команда.
Уриу не знал о гибели «Донского» и готовился с утра возобновить сражение с упорным русским, однако вынужден был отослать подбитые «Дмитрием Донским» «Отову» и «Наниву». В «Отову» попал всего один снаряд – но так неудачно, что крейсеру пришлось возвращаться в порт, куда он и пришел к утру, а вот «Нанива»…
Старому крейсеру сильно досталось еще в первый день сражения, когда японские корабли изо всех сил стремились прорваться к русским транспортам. Но крейсера Энквиста не спали, и «Нанива» серьезно пострадал. Однако не в японских традициях было выходить из боя, пока существовала возможность нанести урон неприятелю. Крейсер не ушел в базу, когда следовало, а теперь несколько попавших в него снарядов с «Донского» привели к закономерному финалу – несмотря на все усилия экипажа, крейсер медленно, но верно проигрывал борьбу за жизнь и затонул, не дойдя до родных берегов каких-то полтора десятка миль.
Флагман Того, знаменитый «Микаса», на котором японский адмирал бессменно провел всю войну получил в первый день сражения почти полсотни попаданий всякого калибра. Броненосец был сильно поврежден, и Того испытал нешуточные сомнения, стоит ли ему и далее участвовать в сражении. Но если моряки «Нанивы» не захотели покинуть строй, то что же было говорить об экипаже флагманского броненосца? Отправить их домой, означало нанести им несмываемое оскорбление, да и сам Того настолько привык к своему кораблю, что оставить его сейчас казалось совершенно немыслимым. Он начинал эту войну на «Микасе», и должен был закончить ее на ставшем родным мостике, и только смерть одного из них могла разлучить адмирала с его флагманом.
Сперва все шло по накатанной – нащупав вчера верную тактику, Того вновь выбивал русские головные, не подставляясь под удары противника и почти не неся ущерба. Но когда солнце склонилось к закату и Того, не желая отпускать остатки русской эскадры, сошелся с ними накоротке, корабли Российского императорского флота вновь обагрили свои клыки кровью — в последний раз. Ничего уже нельзя было изменить, но раскалившиеся русские пушки, перед тем как навеки захлебнуться стылой морской волной, до последнего выцеливали японский флагман. Хейхатиро Того это не волновало, стоя на чудом уцелевшем крыле мостика своего броненосца и наслаждаясь зрелищем павшего величия одной из величайших морских держав мира, он наслаждался делом рук своих. Сейчас, на пике его величайшего триумфа, ему было все равно, жить или умереть – он исполнил свой долг перед Императором и Отчизной, и исполнил его хорошо. Больше никакая обязанность не держала его на этом свете и если богами предначертано ему пасть сейчас, то память о его деяниях навечно пребудет в сердцах сынов Ямато. Что еще мог желать для себя воин?!
Но адмирала не тронул ни снаряд, ни осколок, чего нельзя было сказать о его флагмане. Хотя вчерашние пробоины удалось заделать и частично выкачать воду, но сегодня, от сотрясений залпов и попаданий все заделки расшатывались и разваливались, так что море вновь проложило себе дорожку во чрево броненосца. А затем, в самом конце сражения, фугасный двенадцатидюймовый снаряд нырнул под бронепояс «Микасы» и его взрыватель сработал как полагается.
Спасательные партии выбивались из сил, но «Микаса» медленно но верно прибавлял в осадке, словно не желая бросать в мрачном одиночестве холодных вод сражавшиеся под его водительством и погибшие под сенью его флага корабли. И Хейхатиро Того мог это понять – так же как и он сам, его броненосец полностью оправдал все возложенные на него ожидания, так же как и он – исполнил свое предназначение. Так для чего же ему теперь цепляться за жизнь?
Но адмиралу было жаль свой корабль. И пока внизу усталые матросы в мокрой, пропахшей гарью и потом одежде, стоя по колено в ледяной воде, из последних сил подводили пластыри и крепили подпорки, он ласково провел ладонью по искореженному металлу, словно ободряя вконец измученный броненосец.
И «Микаса» дошел, хотя и погрузившись почти по самые порты шестидюймовых орудий. Осиянный честью и славой Победы входил он гавань Сасебо, под приветственные крики и аплодисменты собравшихся на берегу зрителей. Но слишком многое пришлось вынести флагману на своих стальных плечах, и несмотря на всю самоотверженность экипажа, поступление воды уже нельзя было контролировать. Броненосец тонул, и не оставалось ничего иного, как только выбросится на прибрежную отмель.
— Все-таки русские сделали это — произнес британский наблюдатель Пэкинхем, глядя с мостика «Асахи» на огромный, нелепо накренившийся корпус «Микасы».
По его лицу скользнул быстрый взгляд раскосых глаз Номото Цунаакира.
— Слишком мало осталось тех, кто сможет насладиться этим успехом, — произнес он, и Пэкинхэму показалось, что в беспристрастном и не терпевшем никаких эмоций голосе командира японского броненосца, вдруг послышалось… Сочувствие? Англичанин с интересом взглянул на своего собеседника, но тот, как и всегда, являл собою высеченную в граните невозмутимость.
Битва закончилась, и второй день цусимского сражения обернулся для русского флота трагедией, но почти ничего из этого Николай не увидел и знал только по рассказам. Вечером первого дня его ранило в голову, да еще и перебило руку, потому неудивительно, что ночь, когда Фёлькерзам уклонялся от многочисленных японских миноносцев, молодой мичман провел в беспамятстве. Утром он пришел в себя, но был слишком слаб и вскоре снова уснул.
Из блаженного забытья Николая вырвали звуки боя. Голова его была перевязана, раненную руку охватил крепкий лубок. Оглядевшись, Николай увидел, что лежит не в лазарете, но это как раз понятно — там сейчас и для тяжелораненых места не хватало, вот и унесли в кубрик по соседству. Медперсонала никого не было видно, но мичман чувствовал себя лучше, а потому встал и пошел искать себе занятие.
Следовало бы сперва доложиться оставшемуся за старшего на корабле офицеру, но Николая сильно мутило и он никак не мог пройти в боевую рубку — всякий раз ему преграждали дорогу то заклинившая дверь, то огонь, то искореженная переборка. Голова соображала плохо, а корабль совсем обезлюдел. Николай, пробираясь по выгоревшим коридорам, встретил только нескольких матросов: двое тащили на носилках раненного, а один просто промчался мимо мичмана неведомо куда. Николай окликнул бегущего, но тот либо не расслышал, либо не счел нужным останавливаться. Мичману осталось только пожать плечами, отчего резкая боль прострелила сломанную руку и двинуться дальше.
По «Бородино» вроде бы не стреляли особо, по крайней мере, попаданий и близких разрывов «чемоданов» слышно не было. Самому броненосцу вести огонь было давно уже нечем, однако где-то в носу, кажется, что-то еще огрызалось. Тогда мичман, оставив попытки доложиться командиру корабля, направился на звуки выстрелов. С большим трудом доковыляв до носового каземата семидесятипятимиллиметровых орудий, Николай узрел воистину эпическую картину.
Иссеченные осколками, покрытые гарью стены. Три орудия совершенно разбиты, от одного и вовсе ничего не осталось, кроме жалких кусков станины, да разбросанных повсюду бесформенных кусков металла. Видать, достало его тяжелым снарядом – кусок борта напротив остатков пушки выломан, осталось только сделать неосторожный шаг и сразу окажешься в бурлящей морской воде, под бортом искалеченного броненосца. Ободранный, местами вспучившийся пол каземата был грязен, залит непонятно чем, завален латунными гильзами так, что едва ли было место пройти, ни на что не наступив. В воздухе стоял удушливый запах горелого пороха, и еще какой-то на редкость противной дряни. В общем, каземат являл собой картину полного, абсолютного разрушения, запустения и хаоса.
И среди всего этого ада сновал взад-вперед один-единственный матрос, с черным от сажи лицом, в окровавленной, во многих местах продранной форменке, размеренно, как автомат, подтаскивая снаряды и заряжая единственное уцелевшее орудие.
У прицела, пригнувшись, суетился офицер. Совершенно прокопченный и черный, словно африканский негр, с непокрытой головой, он, скаля белоснежные зубы и что-то рыча под нос, бил в белый свет как в копейку. Прямо над его головой змеилась огромная трещина, скорее даже дыра с неровными, скрученными краями. Пыльные лучи вечернего солнца падали на орудие и стрелка, выхватывая их из полумрака разрушенного каземата и придавая открывшейся мичману картине флер совершеннейшей фантастичности.
В офицере-арапе Николай с трудом узнал вахтенного начальника броненосца, лейтенанта князя Еникеева. Этого офицера молодой мичман не числил среди своих друзей — Николай лейтенанта совершенно не интересовал, а в тех редких случаях, когда им доводилось переброситься пару слов, князь Еникеев держался холодно и официально. Николай не навязывался, но сейчас, конечно, было не до личного – глянув в амбразуру, мичман увидел два японских миноносца.
— Алексей Павлович! Лейтенант! Князь!! – попытался обратиться Николай к офицеру, но тот, войдя в воинственный раж, ничего не замечал вокруг себя.
— Прекратите, Алексей Павлович! Дайте мне, Вы же не артиллерист! — крикнул едва ли не в ухо Еникееву мичман, и попытался схватить того за рукав. Но лейтенант отмахнулся, не глядя, да так что угодил ребром ладони Николаю прямо поперек губ. В ушах зазвенело, зашитая вчера рана полыхнула огнем, и Николай со стоном привалился к переборке, в который раз почувствовав соль крови на языке.
Однако матрос его узнал
— Вашсковородь, это же мичман Маштаков из четвертой башни! – крикнул он. Но лейтенант, дико сверкая белками налитых кровью глаз, не слышал сейчас никого. Тогда матрос, отложив снаряд в сторону, схватил офицера за руки.
— Кто?! Запорю, сволочь!!! – взвыл Еникеев, разразившись словами, которые не принято печатать в книжках. Однако взгляд его постепенно очистился.
— Маштаков, это Вы? Что с Вами? – и, уже обращаясь к матросу:
— Да все я уже, все, отпусти.
— А Вы, вашсковородь, обратно драться не начнете? – с сомнением спросил матрос.
— Господи, Николай, это я Вас так, что ли?!! — ужаснулся наконец-то пришедший в себя лейтенант:
Мутные пятна, застилающие взор мичмана как раз разошлись настолько, что он вновь начал различать вещи вокруг себя. Теперь ему досаждали только маленькие сверкающие звездочки, крутящие невообразимый хоровод перед глазами, но это было терпимо, и Николай улыбнулся:
— Руку мне сломали японцы, если Вы об этом – едва ли не впервые за все время знакомства увидел одобрение и сочувствие в глазах князя.
— Вы можете наводить, мичман? Не могу прибить гада, вроде и рядом, а не возьмешь, так и крутится, макака склизкая!
Николай встал к орудию.
А дальше все было совсем плохо и зыбко. От грохота выстрелов и жуткой вони голова вскоре совсем разболелась и шла кругом, но Николай наводил и стрелял. Быть может, он даже попал в кого-то, но ручаться не стал бы. А потом броненосец сильно тряхнуло и пол резко ушел из под подкосившихся ног. Пушка, до этого верно служившая мичману, вдруг встала на дыбы и со страшной силой ударила стальным казенником поперек груди. От такого афронта Николай совсем растерялся и утонул в серой хмари беспамятства, однако сквозь проблески сознания чувствовал, что его куда-то волокут. Он плавал в океане блаженства, и ему было изумительно хорошо, но потом резкий и мокрый холод вырвал его из прельстительного ничегонеделания. Броненосец куда-то исчез, Николай лежал посреди моря на здоровенном куске древесины. Князь, кажется, держался за импровизированный плотик, на котором дрейфовал сейчас мичман, потому как совсем рядом от лица Маштакова из воды торчала голова Еникеева. Николай от всего сердца улыбнулся этой голове и вновь погрузился в забытье.
Разбудила его встряска и фонтан обрушившейся на него воды. Наверное, где-то неподалеку упал снаряд, а может и что другое случилось, кто знает? К счастью, мичмана не сбросило с плотика, а вот с Еникеевым дело было плохо: глаза князя закатились, руки разжались, а голова, бессильно лежащая на бревне около локтя Николая, на его глазах соскальзывала в пучину. Почему-то этого ни за что нельзя было допустить, и Николай изо всех сил ухватил воротник лейтенанта. Так их и подобрали японцы – раненный, лежащий на обгорелом куске шлюпки мичман, в полузабытьи сжимающий здоровой рукой ворот своего оглушенного товарища.
Кроме них двоих с «Бородино» не спасся никто.
Это известие надолго ввергло мичмана в самую черную меланхолию. Николай выбрал судьбу морского офицера, прекрасно зная о том, что ему, быть может, не суждено умереть от старости. Костлявая подстерегает офицера в бою, да и безо всякой войны на море бывает всякое, и все это Николай отлично понимал.
Но, конечно же, юноша не был готов к беспощадной бойне Цусимского сражения. Никому невозможно изготовиться к первому в своей жизни бою, к грохоту орудий и взрывов, визгу осколков, пламени пожаров, истерзанным телам, своей и чужой крови. Первый бой неумолимо делит жизнь на «до» и «после», и души тех, кому посчастливиться пережить его, навечно заклеймены огнем и сталью, что несет война на мертвых, изъязвленных гноем крыльях. Это тяжкая ноша и кто-то ломается навсегда, другие же, пройдя горнило первого сражения, становятся настоящими воинами.
Николай не сломался. Горечь разгрома и поражения тяжким грузом давила сердце, но с этим он справился. А вот гибель своего экипажа пережить оказалось намного труднее.
Беспощадная память брала Николая за руку и вела галереями воспоминаний – туда, где из увитых траурными лентами рамок, взыскующе смотрели на него павшие друзья и сослуживцы. Николай не мог забыть ничего. Снова и снова он видел, как хмурит брови его начальник, старший артиллерийский офицер Петр Евгеньевич Завалишин – лейтенант никогда не курил и не одобрял этой привычки, но и не ругал дымящих мичманов, лишь неодобрительно качая головой. Как, гуляя в Камрани, восхищался яркими цветами заморских птиц старший штурман Чайковский 1-ый, и как сверкали его глаза, когда одной из этих милых пташек удалось сделать свое черное дело прямо на эполет Борису Илларионовичу. Как смешно морщил лоб мичман Протасьев, с которым Николай частенько сиживал за чаем и доброй шахматной партией. Как ругал нерадивых старший офицер Макаров 2-ой, и как смешно при этом тряслась его борода.
Все они обрели вечный покой в холодных объятиях чужого моря, найдя свой последний приют во чреве погибшего броненосца. Они стояли крепко и бились до последнего, вписав на скрижали чести свои имена, но никому не возложить цветов на их могилы. Останки броненосца сделались для экипажа склепом и надгробием в вечном сумраке морских глубин, куда нет хода ни пешему ни конному, одна лишь пучеглазая рыба проплывет мимо затонувшего корабля, не отличая творение рук человеческих от подводной скалы…
Вскоре по выходе из Либавы, Николай сильно сдружился с поручиком Харитоновым. Что Владимир Георгиевич был всего лишь механиком, от которых воротили нос иные, почитавшие себя белой костью флотские офицеры, на это Николаю, сыну выслужившего офицерский чин моряка, было плевать с высокого клотика. Зато поручик всегда был весел, отличался неуемным оптимизмом и обладал удивительным даром поднимать настроение окружающим, заражая их своею жизненной силой. Они простились незадолго до начала сражения. Владимир Георгиевич, прямо и чуть насмешливо глядя в глаза мичману, крепко сжал его руку, и цитировал Шекспира, до которого был изрядный охотник:
«Не знаю, встретимся ли мы опять,
Поэтому простимся навсегда,
Прощай же навсегда, навеки, Кассий!
И, если встретимся, то улыбнемся
А нет, – так мы расстались хорошо.»
И Николай против воли улыбнулся. А затем они разошлись по боевым постам — Николай отправился в свою башню, а за поручиком захлопнулась дверь машинного отделения — с тем, чтобы больше уже никогда не открыться. До сих пор Николай отчетливо видел лицо своего друга — круглое, подвижное, всегда улыбчивое чуточку вздернутый нос, карие глаза, в уголках которых словно бы затаилась добрая насмешка.
И даже долгие годы спустя эти воспоминания причиняли мучительную боль. Против своей воли Николай вновь и вновь возвращался к загадке, на которую не будет ответа – как погиб его друг? Мичман не видел последних минут броненосца, в то время он находился в забытьи, но знал по рассказам, что перед тем, как затонуть, корабль перевернулся. Какой непредставимый ад разверзся тогда в машинном и котельных? Николай от всей души желал, чтобы для поручика все закончилось быстро. Но что, если его друг уцелел? Что, если вода не затопила герметически закрытые отсеки полностью и уже после того, как броненосец, взметнув тучи ила, упокоился на своем смертном одре, в его недрах остались еще живые люди? Увы, ничего невозможного в этом не было. Принять смерть от вражеского снаряда в бою и на своем посту, с честью выполняя свой долг – это одно. Но медленно умирать в холоде и мраке, не имея ни малейшей надежды на спасение, задыхаясь в спертом, сдавленном воздухе полузатопленного отсека?! Николая пробирал озноб, когда он представлял себе, какие трагедии могли твориться среди немногих выживших. Он упрекал и ругал себя за мнительность, но воспоминания и мысли возвращались, причиняя почти физическую боль.
А еще… В плену Николая не оставляло ощущение потерянности и иллюзорности текущего вокруг него бытия. Мозг отказывался понимать, почему все они: капитаны и лейтенанты, мичманы и поручики, боцманы и кондукторы, простые матросы, все, кого он знал хорошо или видел лишь мельком – почему они ТАМ, а он – ЗДЕСЬ? Раны мичмана быстро заживали, но он чувствовал себя человеком, опоздавшим на поезд собственной жизни. Его друзья веселятся, играют в «трик-трак» и распивают чаи с коньяком в прекрасных пульмановских вагонах, что везут их в светлое завтра. А он остался стоять на пустом, продуваемом всеми ветрами перроне, на который никогда больше не заглянет ни один поезд и капли дождя текут по его лицу, а впереди его ничто не ждет. Окруженный призраками прошлого Николай все больше замыкался в себе.
Лейтенант князь Еникеев Алексей Павлович некоторое время наблюдал за спасенным им мичманом, который, в свою очередь, спас его и сам. Он вовремя понял, что мертвый броненосец не отпускает юношу и взялся за Николая всерьез, встряхивая и тормоша его, заставляя снова почувствовать вкус к жизни. Это помогло – скорлупа, коею совсем было окуклился Николай дала трещину, мичман вновь почувствовал интерес к жизни. А дальше молодость взяла свое.
Раньше Алексей Павлович совершенно не обращал внимание на Николая – не потому, что мичман был ему чем-то неприятен, а просто потому что не было ему до молодого артиллериста никакого дела. Однако же бой совершенно изменил отношение князя к Николаю, теперь же, когда из всего экипажа уцелели они двое, сам Бог велел им держаться вместе. Узнав Маштакова поближе, князь чувствовал все большую симпатию по отношению к мичману, а Николай нашел в Еникееве умного, начитанного и веселого старшего товарища. Так было положено начало их дружбе, которая не прервалась и после плена, годы только укрепили ее, невзирая на то, что жизнь давно разбросала офицеров по разным кораблям.
Огонек погас, и Николай, тщательно выбив остатки табака из трубки, убрал курительные принадлежности в стол. После встречи на «Баяне» прошло уже три дня, и вчера он снова виделся с Алексеем Павловичем – князь сообщил ему, что условия, время и место дуэли согласованы с секундантами штабс-ротмистра. Так что сегодня его ждет насыщенный и под завязку наполненный корабельными хлопотами день, а завтра… Завтра в восемь утра они с графом скрестят клинки.
Совершенно неожиданно, предчувствие неминуемой схватки вдруг оформилось в слова, обретя ритм хайку:
«Стократ благородней тот,
Кто не скажет при блеске молнии:
«Вот она наша жизнь!» (стихи Мацуо Басе)
Николай задумчиво пожевал губами, словно пробуя внезапно родившееся трехстишие на вкус. Получилось вроде неплохо… К черту. Стихосложения, воспоминания и нервная дрожь обождут до вечера, а пока – служба! В конце концов, он главарт мощнейшего линкора, или где?