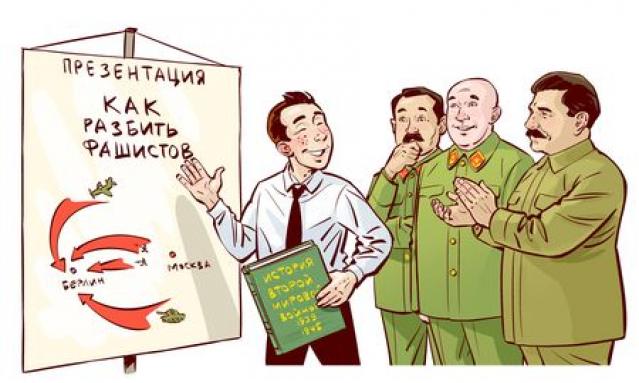Еще одна предвоенная альтернатива. Вступление
Уважаемые коллеги! С легкой руки коллеги Ансара я потихоньку начну выкладывать накопленный у меня материал по предвоенной АИ собственного сочинения. Несмотря на то, что работа по данной АИ ведется далеко не первый год и накоплен уже огромный объем материала, к сожалению, выкладывать особо нечего из-за отсутствия «литературного» обрамления. Дело в том, что в АИ меня больше интересуют «бухгалтерские» расчеты танков/пушек/самолетов/дивизий/рублей в целях проверки собственных предложений, нежели желание изготовить литературное чтиво «для других». Да и за прошедшие годы сами решения мною менялись не раз. Тем не менее желание обсудить интересующие меня вещи всё настойчивее подвигало меня к решению начать выкладывать имеющийся материал, и благодаря коллеге Ансару я-таки решился.
Если честно, то первоначально в качестве бета-версии АИ я собрался было выложить конспективный перечень мероприятий, задуманных мною, на примере двух военных округов – Киевского и Западного Особых. Однако в целях сокращения излишних объяснений, я решил предварить статьи об округах некими «общими» текстами, с подачи уважаемых коллег, написанных в виде стенограмм совещания высшего руководства Красной Армии или же одного доклада «попаданца» на таких совещаниях.
Введение
Поскольку намеченный к публикации сегодня текст доклада «попаданца» (некто товарищ Александров) относительно невелик и не содержит грандиозных изменений по сравнению с РИ, то буквально «в двух словах» попытаюсь обрисовать общий замысел АИ. Наверное к сожалению многих коллег, в альтернативе я использую «попаданца». Оказавшись в Москве весной 1940 г., «попаданец» в течение нескольких месяцев пытается наладить отношения с Тимошенко, представляя ему «пророчества» то о назначении его на пост Наркома обороны, то о начале и подробностях хода немецкого наступления во Франции, то цитируя планы стратегического развертывания Красной Армии и тому подобные документы, доступные на тот период строго ограниченному числу лиц. «Французская» составляющая оказывается решающей, и в начале августа Тимошенко просит Сталина о встрече с «нострадамусом». Таким образом, «точка ветвления» в моей АИ – это начало августа (хотя есть как минимум одно исключение, но «к черту подробности!»).
Помня с одной стороны о неудачном опыте добывания военных планов Австро-Венгрии накануне Первой мировой, а с другой стороны – понимая, что раз история уже изменилась, то никто и ничто не может гарантировать того, что немцы нападут именно в 4 утра 22 июня и будут действовать именно так, как они действовали в известной нам истории, «попаданец» пытается, насколько это можно, готовить страну и армию к войне в целом, а не отражению именно «Барбароссы» и именно утром 22 июня. При этом, свои предложения «попаданец» старается не навязывать армии «сверху» в виде готовых постановлений, подписанных товарищем Сталиным, а в максимально возможной степени «протолкнуть» через самих военачальников, всячески убеждая их принять именно его вариант при решении той или иной проблемы.
Ключевыми направлениями деятельности «попаданца» на этом поприще являются следующие:
1) увеличение числа стрелковых и танковых дивизий;
2) централизация средств усиления (перевод мехкорпусов из армейского во фронтовое подчинение, передача большей части корпусных и армейских артполков соответственно на армейский и фронтовой уровень и т.д.);
3) реорганизация ВВС;
4) из технических вопросов – в первую очередь бронебойные снаряды (постановка в серийное производство 45-мм ББС с «локализаторами» и 76-мм с упрощенной формой сердечника, а также сохранение в плане заказов на 1941 г. выпуска 76-мм ББС на ленинградском и московском заводах; плюс в обязательном порядке «взятие на карандаш» отгрузки 76-мм ББС и новых 45-мм ББС в войска с приоритетной их поставкой в мехкорпуса, противотанковые артполки и стрелковые дивизии западного направления) и танковые моторы («пламенный привет» заводу №75, начало строительства дизельных цехов в Сталинграде и Ярославле, перевод авиамоторного цеха ГАЗа на ремонт и выпуск М-17Т и т.д.), во вторую – попытки исправить хотя бы часть недостатков КВ и Т-34 (в частности, предполагается приостановить выпуск КВ на ЛКЗ в 1-м квартале 1941 г. ради сосредоточения усилий по доводке КВ вместо забот о выполнении плана и запрет КБ ЛКЗ на работы по Т-50; а с целью недопущения простоя производственных мощностей – организация в 1-м квартале 1941 г. на ЛКЗ капитального ремонта и модернизации Т-28 с усилением бронирования и установкой 76-мм пушки Ф-32), а также замена в производстве и на самолетах 7,62-мм пулеметов ШКАС на 12,7-мм УБ;
5) из «военно-подготовительных» – перенос начала учебных сборов с начала июня на середину мая и начала выдвижения войск с середины на начало июня.
Из всего выше перечисленного в наименьшей степени готовности находятся вопросы реорганизации ВВС (поэтому во вступительной статье я их опишу несколько подробнее, ибо в дальнейшем они не будут упоминаться вовсе). Там задумывается следующие.
1) Понимая, что сразу «протолкнуть» идею о переходе ВВС на воздушные армии не получится, ибо слишком революционно для советских довоенных взглядов, «попаданец», как и в случае с А-19 и МЛ-20 в артиллерии, постарается перераспределить авиаполки между армиями и округами (фронтами) в пользу последних. Т.е. формально своя авиация у «сухопутных» армий останется, но большинство авиаполков будет сосредоточено в окружном (фронтовом) подчинении и частично – в РГК (условная пропорция авиаполков всех типов: 25-30% – армии, 50-60% – округа (фронты), 15-20% – РГК; по истребительным авиаполкам: 20% – армии, 40% – округа (фронты), 20% – РГК, 20% – авиация ПВО). Заодно будет проведена «перетасовка» бомбардировочных полков – полки на Су-2 уйдут из фронта в армии, а полки на СБ, Ар-2 и Пе-2 – из армий во фронт. Возможно создание специализированных "гвардейских" авиаполков, которые первыми будут получать истребители новых типов: одна авиадивизия РГК в МВО (а не перевести ли на эту элитную дивизию лучшего истребителя страны – товарища Рычагова?) и по одному отдельному авиаполку в КОВО, ЗапОВО и ПрибВО (с последующим формированием таких полков в ЛВО, ОдВО, ЗакВО, ЗабВО и ДВФ).
2) Будет проведена попытка остановить реформу ВВС конца 1940 г. с ее резким увеличением числа авиаполков и боевых самолетов в составе ВВС. Настойчиво будут внедряться идеи о широких возможностях быстрого маневра ВВС в масштабе фронта и даже нескольких соседних фронтов, а также о том, что главнейшей задачей ВВС является завоевание господства в воздухе, а задачи непосредственной поддержки войск на поле боя и воздействия на тылы должны решаться лишь по мере возможностей.
3) Увеличение числа авиаполков будет предложено осуществить за счет перевода их на 3-эскадрильный штат. Параллельно будет предложено перейти в тактике и организации истребительной авиации от троек к парам.
4) Будет предложено в максимально возможной мере заменить на самолетах ШКАСы на крупнокалиберные пулеметы.
5) Еще одним техническим решением, требующим детального изучения, является замена в производстве на заводе №1 истребителей МиГ-3 на Як-1 (производство МиГ-3 предлагается либо свернуть вообще, а дабы не нажить себе врагов в Кремле «попаданцу» придется переключить Микояна-конструктора «на более перспективную тематику» – реактивные истребители; либо же перевести выпуск МиГ-3 в Горький, а производство ЛаГГов оставить в Таганроге с последующим подключением Новосибирска). При этом предполагается, что истребители Як-1 будут направляться во фронтовые авиаполки, а более тяжелые и менее маневренные МиГ-3 и ЛаГГ-3 – в истребительные авиаполки ПВО. Ожидается, что совокупность трех факторов: а) большие мощности завода №1 по выпуску истребителей, б) более простое освоение летным составом истребителей Як по сравнению с МиГами, и в) возможность отправлять «Яки» в полки уже в готовом виде, а не ждать заводские бригады для сборки после доставки железной дорогой – позволит к 22 июню иметь в войсках большее число боеготовых истребителей нового типа по сравнению с РИ. Основной проблемой для того решения является необходимость обеспечить возросшее число истребителей «Як» моторами М-105, что будет возможно только за счет сокращения выпуска Пе-2. А дабы компенсировать снижение числа фронтовых бомбардировщиков, «попаданцу» придется ускорить работы по бомбардировщику «103» Туполева на двигателях АМ-35 (двигатели для Ту-2 получим за счет того же уменьшения выпуска МиГ-3). В рамках 1941 года задача перераспределения выпуска истребителей и бомбардировщиков решается прекрасно, но с середины 1942 года начинаются проблемы – мощности завода №19 не позволят обеспечить в середине войны моторами М-82 одновременный выпуск истребителей Ла-5 и бомбардировщиков Ту-2…
В части реализации материала по реформе ВВС я застрял на необходимости перераспределить между полками самолеты (ориентируясь на известные данные о числе исправных самолетов на 1.06.41) и летный состав (также известные данные на 1.06.41), а сами полки – между аэродромами.
По части флота мною предусматриваются в общем-то «классические» решения для «попаданцев»: в августе 1940 г. убедить и в сентябре-октябре 1940 г. законсервировать строительство линкоров пр. 23 и тяжелых крейсеров пр. 69 (а также лидеров пр. 48), за счет чего форсировать достройку легких крейсеров, эсминцев, подводных лодок и катеров различного назначения. Традиционное внимание тральщикам на Балтике, внедрение ускоренными темпами больших охотников, проработка быстрореализуемых проектов десантных кораблей. Из специфического – подготовка и организация к переходу весной 1941 г. с Балтики на Север крейсера «Максим Горький», лидеров «Минск» и «Ленинград» с танкером и оборудованием приема топлива на ходу, а также переход «Калинин» и лидера «Баку» с Тихого океана также на Север. Но, впрочем, для вступительной статьи это уже лишние детали…
Кроме того, параллельно мной прорабатывается и «безпопаданческая» альтернатива с «точкой ветвления» в конце апреля 1941 г. Однако, степень ее готовности значительно ниже, поэтому пока никаких публикаций по ней мною не планируется, хотя со всеми желающими я готов с удовольствием ее обсудить, например, в комментариях.
Итак, приступим.
Сегодня вашему вниманию предлагается текст выступления т. Александрова при обсуждении Плана Стратегического развертывания вооруженных сил СССР на Западе и на Востоке на 1940 и 1941 годы, разработанного Начальником Генерального штаба Красной Армии Маршалом Советского Союза Б.М. Шапошниковым. Сам план опубликован в 1-м томе сборника документов «1941 год» (документ №95), имеется в Интернете (http://www.bdsa.ru/совнарком-1940-год/1489-95-19-1940), и должен быть хорошо знаком всем интересующимся начальным этапом Великой Отечественной войны и советским предвоенным планированием, а потому в статью не включен. В качестве иллюстрации я лишь предлагаю карту т.н. «северного варианта» из книги М. Мельтюхова, т.к. «северный вариант» образца сентября 1940 г. является непосредственным воплощением идей основного плана образца августа того же года.
По первоначальному* замыслу АИ, к моменту доклада Б.М. Шапошниковым в первой половине августа 1940 г. Плана стратегического развертывания Красной Армии, Александров был уже представлен Наркомом обороны Сталину, и Сталин специально позволил Александрову выступить при обсуждении плана Шапошникова. Сделано это было по ряду причин. Во-первых, Сталин хотел «обкатать» Александрова через высший командный состав РККА. С одной стороны, Сталину нужна была объективная оценка «попаданческих» предложений со стороны специалистов в военном деле. С другой стороны, Сталин к тому моменту уже «перешел на сторону» Александрова и ему было нужно «приучить» своих военачальников прислушиваться к мнению «попаданца». Во-вторых, Сталину был нужен «красивый» повод для снятия Шапошникова с НГШ, и критика Александрова тут была как нельзя кстати. Напомню, что в РИ Шапошников был сменен Мерецковым на посту НГШ 19 августа 1940 года. Согласно мемуарам А.М. Василевского, формальным поводом для снятия уважаемого Сталиным Шапошникова явилось желание Сталина показать иностранным, как говорят нынче, «партнерам» всю серьезность и решимость советского правительства в вопросе исправления ошибок в строительстве Красной Армии, свидетелями которых (ошибок) оказался весь мир зимой 1939/40 годов, когда колосс-Россия «споткнулась» о «козявку»-Финляндию. И якобы из-за этого и было решено вслед за Наркомом обороны снять с должности и Начальника Генерального штаба. При этом Василевский подчеркивает, что снятие носило чисто формальный, «внешний» характер, да и сам ход событий подтверждает такую версию – уже через год, летом 1941 года Б.М. Шапошников вновь занял пост НГШ.
Тем не менее, кроме мемуаров Василевского, существует и ряд других объективных моментов, свидетельствующих о том, что к августу 1940 г. между точкой зрения Шапошникова и «политикой Партии и Правительства» наметились явные разногласия. Напомню, что в сборнике «1941 год» точной даты плана Шапошникова нет. Однако, с одной стороны известно, что Мерецков был назначен НГШ уже 19 августа, а с другой – в самом плане фигурируют прибалтийские национальные дивизии, «узаконенные» в этом виде приказом НКО только от 17 августа. Считается, что план Шапошникова докладывался на заседании ГВС 16 августа 1940 г. Далее. В самом августовском плане единственным вариантом главного приложения усилий Красной Армии являлся разгром Восточно-прусской группировки противника. А в плане, разработанным новым НГШ уже через месяц – 18 сентября 1940 г., предусматривались различные варианты действий – как против Восточной Пруссии, так и против южной Польши. И уже в ходе обсуждения этого плана было решено от удара по Восточной Пруссии отказаться окончательно, оставив так называемый «южный вариант» в качестве основного и единственного. Так, в октябре 1940 г. Нарком обороны и Начгенштаба писали Сталину следующее:
«Докладываю на Ваше утверждение основные выводы из Ваших указаний, данных 5 октября 1940 г. при рассмотрении планов стратегического развертывания Вооруженных Сил СССР на 1941 год. … На Западе основную группировку иметь в составе Юго-Западного фронта с тем, чтобы мощным ударом в направлении Люблин и Краков и далее на Бреслау в первый же этап войны отрезать Германию от Балканских стран, лишить ее важнейших экономических баз и решительно воздействовать на Балканские страны в вопросах участия их в войне»
(специально для верующих в то, что "южный" вариант пришел в ГШ только при Жукове – http://www.bdsa.ru/совнарком-1940-год/1530-134-103313-5-194).
Таким образом, из сопоставления этих фактов можно сделать вывод о том, что, вероятно, большинство военных в августе высказались против идеи НГШ главной целью первой операции иметь разгром противника, опирающегося на форты Восточной Пруссии. А политическое руководство, насмотревшись на штурм «Линии Маннергейма» в декабре 1939 г., поддержало военных. В результате чего, новый НГШ первым же делом стал разрабатывать альтернативный вариант первой операции, по обсуждению которой от варианта со штурмом Восточной Пруссии отказались вовсе.
Кроме того, при описании причин снятия Шапошникова с поста НГШ не следует забывать и о таких словах в акте приемки НКО Тимошенко от Ворошилова:
«К моменту приема и сдачи наркома обороны оперативного плана войны не было, не разработаны и отсутствуют оперативные планы, как общий, так и частные.
Генштаб не имеет данных о состоянии прикрытия границ. Решения Военных советов округов, армий и фронта по этому вопросу Генштабу неизвестны»
(http://www.bdsa.ru/совнарком-1941-год/2096-31). Т.е. помимо озвученных Василевским имелись и другие причины для перевода Бориса Михайловича «на менее ответственную работу».
Впрочем, мы отвлеклись… Из всего вышесказанного для АИ является важным тот факт, что высказывания Александрова направлены в первую очередь на то, чтобы ускорить переориентацию всего высшего военного и политического руководства страны с «северного» варианта развертывания вооруженных сил на «южный».
Примечание: * – Существует и другой вариант АИ, в котором Александров отсутствовал при обсуждении плана Шапошникова, а был представлен Сталину и другим высокопоставленным лицам (по тексту АИ кроме Тимошенко и Александрова в кабинете Сталина при этом находились, как минимум, Молотов, Берия и Маленков от «гражданских» и НГШ Шапошников и НК ВМФ Кузнецов «от военных») через один или два дня после обсуждения августовского плана ГШ, а сам текст плана был использован Александровым в качестве одного из доказательств своего «происхождения» (по тексту АИ с середины июля по собственной просьбе Александрова за «попаданцем» было установлено внешнее наблюдение, которое должно было подтвердить Тимошенко отсутствие у Александрова возможности «выкрасть» разрабатываемый в это время в ГШ окончательный вариант плана).
***
Товарищи! На мой взгляд, в предложенном документе есть ряд серьезных недостатков, которые, при всем уважении к товарищу Шапошникову, его опыту, знаниям и вкладу в дело обороны нашей Родины, никак нельзя умалчивать.
Первое, на что я бы хотел обратить ваше внимание, – это наступательные задачи, которые поставлены нашим войскам. Вернее, не сам наступательный их характер, а то соотношение сил, при котором предлагается выполнять эти задачи. Согласно оценкам Генштаба, всего севернее устья р. Сан Германия будет иметь порядка 120 пехотных и моторизированных дивизий и 10 танковых дивизий. А задача по разгрому этой группировки противника ставится нашим войскам в составе всего 97 стрелковых, моторизированных и кавалерийских дивизий и 11 танковых дивизий. При этом задача ставится разгромить противника не где-нибудь в чистом поле, а в Восточной Пруссии, насыщенной крепостями и фортами. Что может дать обороняющимся войскам опора на долговременную фортификацию – нам всем прекрасно известно по недавним событиям на Карельском перешейке. Возможно, разработчики плана делали ставку на наше превосходство в технике, в частности, в танках? Но, во-первых, раз противник развернет 2/3 своих танковых дивизий севернее устья р. Сан, то никакого численного превосходства в танках мы иметь не будем. А во-вторых, все наши танки имеют противопульное бронирование, производство танков с противоснарядной броней только начинается. А что такое в современной войне танк без противоснарядной брони присутствующим здесь товарищам также прекрасно известно. И в Испании, и на Халхин-Голе, и на Карперешейке встреча наших танков с противотанковой артиллерией противника заканчивалась весьма плачевно. Учитывая оснащенность германской армии противотанковыми средствами в сравнении с японцами или теми же финнами, можно сказать, что те танки, которые мы сегодня имеем, – это танки одного боя, одной атаки.
Далее. Из озвученного числа дивизий 15 стрелковых дивизий имеют срок готовности не ранее 15 – 30 суток с начала мобилизации, т.е. к началу операции на них рассчитывать будет нельзя. Как нельзя рассчитывать и на 6 национальных прибалтийских дивизий. Давайте в этом себе признаемся честно. Их надо или переформировывать, разбавляя национальный контингент проверенными кадрами, или долго-долго перевоспитывать и обучать нашим программам, уставам, образцам вооружения. Итого у нас остается 87 дивизий против 130 у немцев. Какое тут может быть наступление?
Третье обстоятельство, на котором мне бы хотелось остановиться – это сроки сосредоточения. Хорошо известно, что пропускная способность железных дорог, которыми располагают немцы, заметно превосходят ту сеть, которая подходит к границе с нашей стороны. То есть даже если мы начнем сосредоточение войск одновременно с Германией, мы всё равно окажемся в проигрышном положении. Более того, даже при условии, что мы начнем выдвижение войск первыми, немцы всё равно имеют возможность упредить нас в сроках развертывания войск и могут нанести удар по нашей неразвернутой армии. Что же говорить про случай, если развертывание наших войск будет иметь ответный характер по отношению к подготовительным мероприятиям германской армии? Представьте: пока немецкие перевозки достигнут масштабов, обращающих на себя внимание нашей разведки, пока наши разведорганы перепроверят данные от закордонной агентуры о сосредоточении немецких войск, пока командование примет решение о начале развертывания наших войск, пока мы отмобилизуем свои войска в глубине страны, пока перевезем их в приграничные округа – к этому времени немцы уже давно закончат свое сосредоточение и перейдут в наступление, имея разительное превосходство в силах как вообще на ТВД, так и выбранных ими направлениях главных ударов в особенности.
Так что тут есть над чем поломать голову, независимо от того, наступательную или оборонительную задачу мы будем решать. Безусловно, требуется увеличивать пропускную способность железных дорог. Безусловно, надо усиливать войска прикрытия мощными укрепрайонами. Но ни то, ни другое не может быть достигнуто мгновенно, это – задача не одного года. А сколько есть у нас в запасе времени, никто однозначно сказать не может. Другим направлением решения данной проблемы может быть заблаговременное увеличение группировки войск в приграничных районах. Но здесь нас сдерживает малая оперативная емкость территории Западной Белоруссии и Прибалтики – там физически нет возможности расквартировать много войск. Жилой, казарменный фонд там совершенно недостаточный. Для этого также надо вести масштабное строительство, а это требует времени. Много времени и средств.
Подводя итог сказанному, я бы хотел сделать вывод о нецелесообразности проведения наступательной операции севернее Полесья на начальном этапе войны. Во-первых, оно приобретет характер встречного сражения с главными силами противника, и при существующих раскладах соотношения сил у нас очень мало шансов на успех в таком сражении. Во-вторых, ведение наступления на данном направлении столкнется с упиранием в мощные оборонительные сооружения Восточной Пруссии, что неизбежно приведет к замедлению темпов продвижения, большим потерям в людях и технике и высокому расходу боеприпасов. В общем, учитывая проблемы со сроками сосредоточения, хорошо бы нам успеть развернуть здесь группировку для построения обороны.
В этих условиях невольно обращает на себя внимание операционное направление, расположенное южнее устья р. Сан. Здесь мы также имеем проблемы с быстрым сосредоточением ударной группировки, но и у противника ТВД здесь оборудован намного слабее. Здесь у немцев, во-первых, нет серьезных укреплений, во-вторых, по оценке Генштаба, группировка войск у них здесь будет слабее, и, в-третьих, транспортная сеть в южной Польше слабее, чем в Пруссии. К преимуществам нанесения удара на этом направлении можно отнести и то, что фланг нашей наступающей группировки будет прикрыт Карпатами. Севернее Полесья этого достичь не удастся, т.к. наступление вдоль побережья Балтики невозможно из-за фортов Кенигсберга, а нанося удар в центре, мы неизбежно оказываемся под угрозой фланговых группировок противника и из района Пруссии, и из района Варшавы.
В политическом смысле удар южнее устья реки Сан позволит нам отрезать Балканские страны от Германии. В военном отношении такой удар выгоден нам тем, что имея высокие шансы на успех здесь исходя из соотношения сил, мы вынудим противника перебрасывать войска сюда с направления его главного удара. Этим мы поможем своим войскам, обороняющимся севернее Полесья. Ведь там с учетом и общего соотношения сил, и особенно с учетом проблем со сроками развертывания, мы можем не выдержать главного удара германских войск. Так что удар на юге, даже если мы не достигнем главной цели – отрезания балканских союзников от Германии и выхода в район Бреслау, мы все равно достигнем положительного результата хотя бы в плане сдерживания наступления главных сил противника. К тому же местность на западе Украины и на юге Польши вполне позволяет массировано использовать мотомеханизированные соединения. В общем, товарищи, я за то, чтобы наш план предусматривал построение обороны к северу от Полесья и подготовки наступления южнее. Так сказать, отказ от встречного сражения в пользу флангового обхода. С учетом пространственного размаха при такой схеме противнику труднее будет маневрировать сосредоточенными севернее р. Сан силами, так как увеличится расстояние, на которое ему придется их перебрасывать навстречу нашим ударам. Единственное, что при таком наступлении следует очень внимательно отнестись к прикрытию правого фланга. Не нестись сломя голову к Бреслау, а, может быть, даже искусственно сдерживать темпы наступления, имея в виду самым главным – обеспечить себя от контрудара с севера, грубо говоря, из района Варшавы. Ведь там, по сути, окажутся главные силы противника. Поэтому выход в район Бреслау – это не самоцель. Самое важное – сковать силы противника, может быть, разбить их по частям. Но при этом обязательно уберечься от попадания в окружение самим.
Кроме того, поскольку речь зашла о трудностях со сроками развертывания наших войск, я бы хотел предложить вот что. Две танковые дивизии, дислоцируемые в настоящее время в Закавказье и Средней Азии, как я понял, не предполагается задействовать там же на прикрытии госграницы – они используются в качестве резерва на Западном направлении. Предлагаю в этом случае уже сейчас сменить им районы дислокации на более близкие к району предназначения. Всё-таки танковые дивизии требуют значительное количество подвижного состава для переброски по железной дороге, а переместив их, скажем, одну в Северо-Кавказский или Харьковский военный округ, а вторую – в Орловский или Московский, мы не только снизим нагрузку на железнодорожный транспорт при развертывании вооруженных сил, но и сократим время развертывания. Заодно чем меньше времени мы будем вынуждены возить массу танков и другой техники по железным дорогам, тем меньше будет у иностранной агентуры возможности вскрыть факт развертывания наших войск.
Что касается мехкорпуса из Забайкалья, который также по предложенному плану используется на Западе, то считаю необходимым оставить его на прежнем месте, ибо возможность возобновления войны только с одной Японией исключать нельзя. А тогда нам придется загружать Транссиб напрасной перевозкой туда-сюда одних и тех же дивизий.