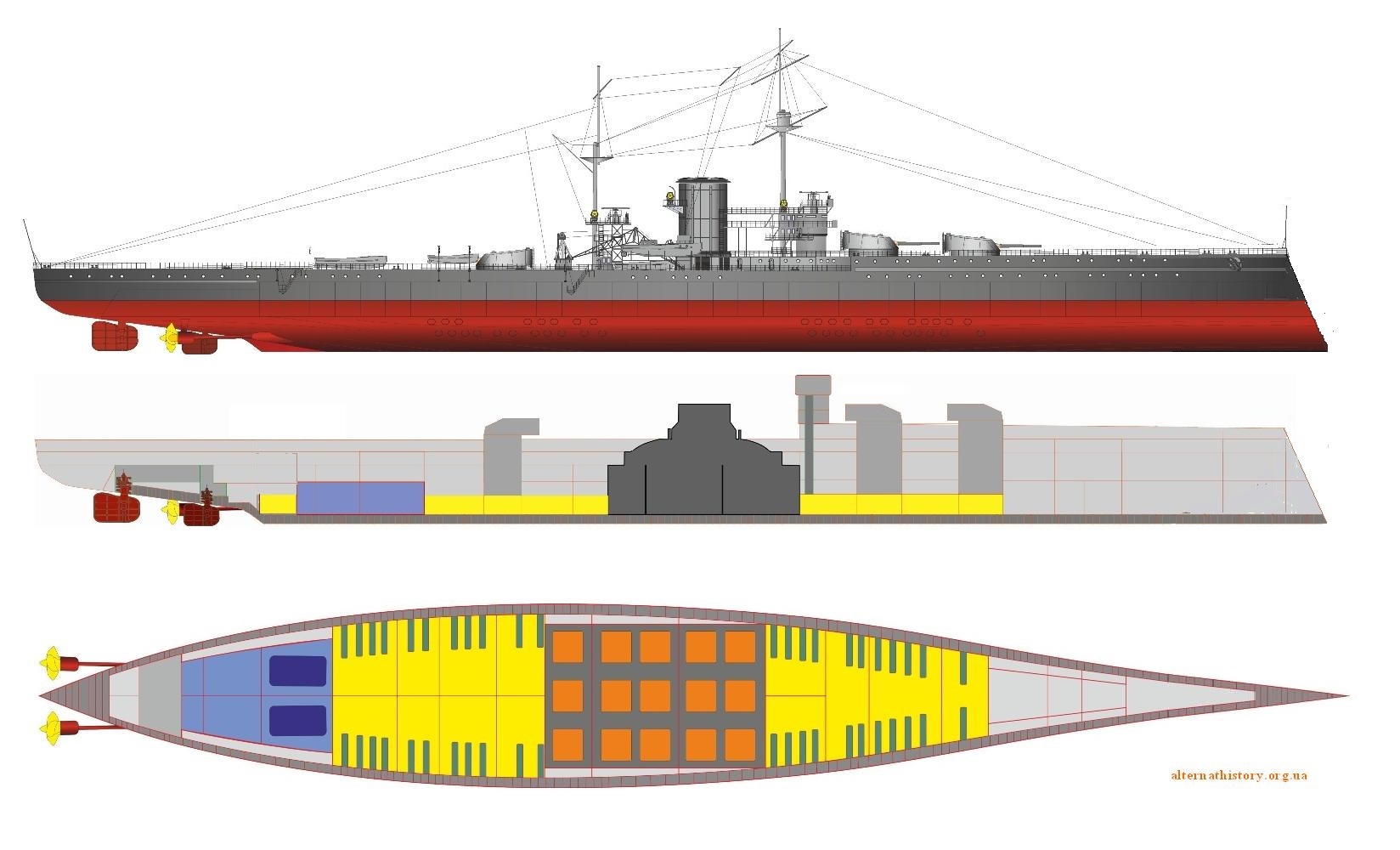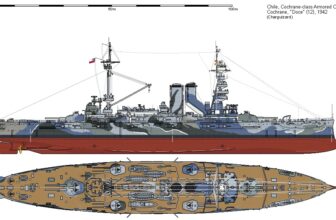«Дети железного века» (3-я новая редакция) — 5.
Воскресенье. В лето 7436 года, месяца октября в 29 — й день (29 — е октября 1928 года). Седмица 23-я по Пятидесятнице, глас шестый.
Москва. Гутмановская рабочая слобода.
-…Иногда ты напоминаешь мне машину. Иногда. Довольно милая, но машина. — со вздохом сказал генерал. – ты спишь шесть часов в сутки, не больше и не меньше. Засыпаешь мгновенно, редко просыпаешься ночью. Но утром, едва открыв глаза, сразу, в это же мгновение, ты обретаешь все свои способности. Ты не знаешь половинного состояния между сном и действительностью.
-Игра рефлексов. — ответила Даурия. — Слышали ли вы, мой милый женераль, о теории игры рефлексов?
-По правде говоря, довольно смутное у меня представление о теории рефлексов. Ты хочешь прочесть мне лекцию по этому вопросу?
-Если тебя это интересует, мой сентиментальный женераль…
-И что за чудная привычка класть под подушку заряженный револьвер? Каждый раз ты проверяешь, заряжен ли он.
-Я всегда готова к опасности, готова теоретически и практически.
Даурия никогда не была ровна с генералом — периоды презрительной холодности могли смениться припадками бурной любви, но лицо ее всегда сохраняло классическое спокойствие. Это генерала пугало. И это же притягивало к ней. Серьезные ссоры между ними бывали, не часто, но бывали. Сдержанное бешенство свое Даурия проявляла изредка, чисто физически, когда она вступала в борьбу с ним, когда бывала вне себя от гнева. Когда он, прижав ее руки к телу, медленно укладывал ее на пол, стараясь не причинить ей боли.
-Ты слишком совершенна.
-Это плохо? — в разговорах с генералом Даурия редко когда уступала.
-Отчасти.
-Ты заблуждаешься.
-Эх, и что ты могла во мне найти? — сказал генерал с притворной задумчивостью и поцокал языком. — Такая женщина…
-Прекрати. Я знаю тебя. Ты весь пропитан ложью. Весь, до конца. Даже твои мускулы лгут.
-Это всего лишь физиологический феномен, который современной наукой…
-Ты еще и клоун…Давай уж по делу…
-Что ж, по делу…Серия бомб, разорвавшихся в один и тот же час вечером двадцать шестого октября в Киеве и Владимире, по — видимому предназначались киевскому градоначальнику и ректору Владимирской духовной семинарии архимандриту Иллариону…
-Архимандрит Илларион тут причем?
-Мне кажется, что, судя по всему, это должно было подчеркнуть атеистическое происхождение злодейского умысла. — большие, неопределенного цвета глаза Дрозд — Бонячевского смотрели сосредоточенно, напряженно, но не без юмора. Тонкие губы растянулись в улыбку. — Архимандрит отделался испугом. В Киеве особняк градоначальника серьезно пострадал. По счастью, его обитатели не пострадали. Единственной жертвой взрыва был сам покушавшийся, опознать которого не удалось, настолько деформированы его останки. Впрочем, среди разбросанных взрывом частей человеческого тела полицией найдены две левые ноги. Газетам сей факт стал известен и они уже понесли министра внутренних дел князя Ромодановского по кочкам. Но более любопытным представляется тот факт, что погибший как будто заранее позаботился о том, чтобы оставить на месте взрыва памфлет ультрареволюционного содержания, который дал повод говорить о принадлежности незадачливого террориста к какой — то радикальной организации. Однако, это ни в какое сравнение не идет с тем невообразимым шумом, который был поднят прессой вокруг взрыва автомобиля на Сретенке, у «Гранд — Электро».
-Подробности?
-Подробности случившегося леденят кровь. — усмехнулся генерал. — Взрыв был оглушительный. Шутка ли сказать: взорвалась неведомо как очутившаяся там машина, взрывом огромной силы было убито два с лишним десятка прохожих, спешивших на премьеру звуковой фильмы, много народу ранено. Среди пострадавших и погибших не оказалось представителей мира могущественной русской финансовой элиты или государевых чиновников…Как и во всех других подобных случаях, подлинные виновники катастрофы не оставили в руках полиции никаких нитей, ведущих к раскрытию ее тайны. Хотя это не помешало князю Ромодановскому заявить давеча, что взрыв, скорее всего представляет собой звено в длинной цепи «преступлений радикальных политических элементов».
-Что теперь?
-Преступников полиция вскоре заарестует. Найдутся непосредственные исполнители, попавшиеся на чем-нибудь серьезном. Их ликвидируют во внесудебном порядке, как организаторов леденящего душу взрыва на Сретенке. Завтра. Или послезавтра. Мелкую сошку закатают в каторжные работы. Ты на днях едешь обратно в Вильну. Игра начинается…

Вторник. В лето 7436 года, месяца октября в 31 — й день (31 — е октября 1928 года). Седмица 24-я по Пятидесятнице, глас шестый.
Москва. Екатерининский парк.
Александр Петрович Воробьев обедал с приятелями и с любовницей своей, Еленой Львовной Гончуковой, в «Старой Риге», у Екатерининского парка. Обедали на втором этаже, где стояли для карточной игры зеленые столы, брызгала музыка волнующе, как запах духов, где проходили, благодаря зеркалам, в два раза чаще и картиннее, будоражащие женщины… Бархат, шорох, лоск…Цыгане, под жалобы гитары, твердили неуклонно свое — «любовь прошла», «буран будет», и кое — где за соседними столиками восторженно им подпевали.
Обед тянулся бесконечно, он грозил затянуться до сумерек. Яйца в винном желе, устрицы, телячье жаркое, рис с томатным соусом, сыр, вино, взбитые сливки с шоколадом и кофе с бенедиктином. Вполне по — французски.
Воробьев, сын московского профессора и общественного деятеля, бывший офицер, официально — комиссионер по продаже патефонов и патефонных пластинок, а неофициально — штатный государев палач, плотный коренастый крепыш пятидесяти двух лет, с обезображенным открытым лицом честного человека, с беспокойным умным глазом (давным — давно, во время пустяшных студенческих беспорядков в Дерпте, серной кислотой Воробьеву, бравому поручику, выжгло левый глаз и всю половину лица; опасались и за второй глаз, по симпатической симметрии, но ему сделали пластическую операцию, извлекли сваренный серой глаз, подогнали голландский протез), после тяжелой жратвы (moules*, мясо) с несколькими литрами красного ординера, много и шумно шутил. Дошло до того, что он извлек свой искусственный глаз и, показав приятелям, зачем — то захотел опустить его в вино, но остановился. Мужчины, устав солидно, торжественно, игриво, лукаво, влюбленно, благодарно следить за каждым выкрутасом Воробьева, предупреждая его желания, — ухаживая, наливая, угощая, расстегнув жилеты, разомлевшие, преданно хлопали палача -комиссионера по плечу, сдували крошки и пылинки, обнимали потными руками. Собравшиеся в «Старой Риге» приятели веселились одинаково превосходно.
Воробьев лукаво поглядывая на Елену Львовну (дама была ничего, вполне в его вкусе, с прямыми точеными плечиками, тонкая, с трогательно торчавшей маленькой грудью, и несколько портившей ее жестковатой складочкой у губ), сообщил о родственнике, умершем недавно: его наследники поссорились из — за альбома порнографических карточек, которую он сам и подарил старику. Подстрекаемый восхищенными взглядами, улыбками, возгласами, Воробьев все больше втягиваясь и уступая, пошел красно расписывать, темы становились все более игривыми. Елена Львовна, знавшая наизусть целые главы из «Любовника леди Чаттерлей», запунцовевшая, вся подалась вперед, настороженно — предостерегающе. Но Воробьев — красный, потный, успокоительно кивал ей головой, укоризненно пожимал плечами, давая понять, что где полагается, — смолкнет: не такой он человек. И действительно, Александр Петрович умело, круто, над самой «клубничкой», с края, как говорится, на самом карнизе, останавливался, поворачивал, обходил: этой ловкостью вызывая общее одобрение, ликование приятелей и благодарность в потупленном взоре личного референта…
Приятели визгливо хохотали, разгоряченные выпитым вином дурашливо, по — мальчишески, норовили ткнуть пальцами в искусственный глаз. Воробьев тотчас рассказал анекдот: к богатому жестокосердому еврею приходить бедняк за пятью рублями — крайняя нужда. Богатый решил: «если ты отгадаешь, какой у меня глаз искусственный, я дам три рубля». Бедняк не задумываясь показал: «вот этот, левый». Богатый поразился. А тот объяснил: «Когда я говорил о своем, то в правом глазе — ничего; а в левом я заметил какой — то огонек милосердия и сочувствия».
Александр Петрович, сыто оглядывая хохочущих приятелей, закурил сигару. Обед был почти кончен, когда его позвали к телефонному аппарату. Допив кофе и докурив сигару, он тяжело поднялся и прошел к телефону. Выслушав, что ему сказали в трубку, он бросил в зал ресторации яростный взгляд и громко, вызывающе, произнес:
-Я выезжаю немедля…Да…Это все жидовины проклятые мутят…Семя адово…А мы за веру святую, за государя души кладем, и спуску никому не дадим…Да я уж сколько говаривал — давно пора разом покончить с аспидами, хватит с ними цацкаться! Не жить бы им, продажным! Один и конец. Собакам — собачья смерть!

===========================
moules (фр.) — моллюски.
Вторник. В лето 7436 года, месяца октября в 31 — й день (31 — е октября 1928 года). Седмица 24-я по Пятидесятнице, глас шестый.
Москва. Старое Ваганьково.
…Вешали, или иначе сказать, удавливали, по традиции, тайно, в пустующем гаражном сарае в Старом Ваганькове, где располагался исторический комплекс зданий бывшего Аптекарского приказа. Раньше Аптекарский приказ находился в Потешных палатах Московского Кремля, поскольку связь его с царской фамилией была достаточно тесной и именно при нем находились царские врачи. Важными составляющими частями приказа были государева аптека, так называемый Аптекарский огород (то есть место, на котором выращивались лекарственные растения), кабинет редкостей, где собраны были в первую очередь гербарии, и…царская библиотека.
Из книжного собрания Аптекарского приказа появилась царская библиотека, старейшую часть которой составили книги, находившиеся у основателя династии, царя Бориса Федоровича Годунова, его сына, Федора Борисовича, ближнего боярина Семена Никитича Годунова, умершего в 1612 году и западноевропейские издания, привезенные в Москву английскими купцами Флэтчером и Голсуортом в начале 1609 года.

Аптекарский приказ изначально был призван стать чисто дворцовым ведомством, занимавшимся всем, что относилось к здоровью самого Ивана Грозного и царицы. Но очень скоро Аптекарский приказ расширил свою компетенцию и включил в сферу своей деятельности, помимо забот о здоровье царского семейства, еще и заботу о придворных царя, ближних боярах, военачальниках, а затем и о царском войске. Именно на этот приказ была возложена борьба с терзавшими русскую землю «моровыми поветриями» — эпидемиями опасных инфекционных болезней. С годами назначение Аптекарского приказа, а точнее, одной из важнейших его частей, государевой аптеки, — обслуживание, главным образом, царя и членов его семьи, существенно изменилось. Приказ стал основой для личной секретной службы царя.
В середине семнадцатого столетия Аптекарский приказ перевели из Кремля в Старое Ваганьково. Когда — то местом у Ваганьковского холма заинтересовался Иван Грозный, построивший неподалеку Опричный дворец. Теперь же в обширном Аптекарском дворе, обустроенном в Староваганьковском переулке, в каменных палатах, подвергшихся значительным переделкам и перестройкам, разместилось ведомство Государевой Тайной Стражи, впоследствии названное на европейский лад Департаментом Государственной Охраны.
На виселице в Старом Ваганькове за несколько лет уже было втихую повешено свыше полусотни человек, в числе которых был ряд видных и опаснейших террористов, революционеров, а то и московских убийц — душегубов, наводивших страх на весь город.
Этих двоих, Брауде и Трайницкого, политических радикалов — террористов, зарезавших на Мещанской, по «революционному протоколу», филера летучего отряда московской полиции, привезли на казнь в «давилку» затемно, в обычном, серого цвета, хлебном фургоне. Никакой томительной процедуры оглашения приговора не ожидалось — «исполнить рябчиков» должны были быстро, без «бюрократии». Фургон загнали задним ходом в гараж, обоих приговоренных со скованными наручниками руками вывели и поставили около машины. Подошел рыжий с быстро бегающими глазами, священник, неся подмышкой крест и евангелие, предложивший приговоренным исповедаться. Он почему — то особенно рьяно старался «отпустить грехи», имеющие отношение к политической работе осужденных. Но и Брауде и Трайницкий молча отшатнулись от духовника.
-Покайтесь, не будьте упрямы. Умрите с чистой душой, — елейным голосом стал уговаривать осужденных священник.
Брауде не выдержал и громко крикнул:
-Не надо! Отойдите! Христос носил крест на спине, а вы предпочитаете носить его на брюхе. Не будьте же лицемером…
Священник, замолчав, осенил их крестом и отошел в сторону. Приговоренных неспешно подвели к месту казни.
Во дворе усилилось движение, когда из здания Департамента вышла группа людей. Сразу сдержанный, осторожный шум наполнил двор, замелькали огни. Впереди шли Директор Департамента, прокурор, врач и неизвестный в синих очках и в котелке. За ними городовые стражники, окружавшие своими рядами, как густой цепью, высокое начальство.
Директор Департамента вошел в гараж первым. За ним — доктор, женщина, прокурор, на ходу не перестававший чистить ногти удивительным швейцарским ножичком, в котором чего только не было: и подпильники, и уховертка, и в зубах ковырять, и гребеночка усы расчесывать…Последним в сарай вошел «тип» в синих очках. Это и был государев палач, главный «давильщик» Воробьев.
Все устремили свои взгляды на приговоренных. Оба — Брауде и Трайницкий — были в темных пальто, оба прямые, спокойные. Их взгляд, глубокий и загадочный, мгновенно приковался к кольцу в потолке и эшафоту из табуретов и столов. Приговоренных остановили в двух шагах от эшафота. Один из стражников деловито готовил мертвую петлю для виселицы. Веревка была сухая и плохо скользила в петле. Стражник намыливал ее серым мылом и поливал теплой водой. В самом темном углу, у запасных автомобильных шин, расплывчатой кучей выбились саваны для трупов, сделанные из простых мешков…
-Отдыхать некогда, отец Варсонофий. — негромко хохотнул Воробьев, единственным глазом посматривая на Директора и прокурора. — Вот опять у нас с вами работенка. Благословите.
И палач подошел к священнику под благословение. Священник благословил. Палач поцеловал руку священника, и затем они оба подошли к импровизированному эшафоту.
Перед самой казнью мертвенно — бледный, но с улыбкой на осунувшемся лице, Трайницкий обратился к своему товарищу Брауде:
-Ну, друг, давай простимся. Мы умрем без страха и унижения…
Поцеловавшись с товарищем, он сам спокойно взошел на стол, а затем на табурет.
-Палач, я готов. Приступай к своей гнусной работе!
-Давайте без пафоса. — поморщился Директор и прикрикнул, обращаясь к палачу. — В самом деле, что прохлаждаетесь? Заждались.
-Надевайте мешок. — сказал Воробьев стражникам.
И опять смутной и жуткой тенью подплыла к смертнику фигура духовника с крестом в простертой руке.
-Покайся, раб, смирись. Спаси свою душу от мук ада, — прошептал священник.
-Я приму смерть с открытым лицом. — глаза Трайницкого загорелись молодым задором.
-Как будет угодно.
Когда на шею приговоренного была накинута мокрая скользкая петля, Трайницкий сдавленным голосом попытался что — то выкрикнуть.
-Не на конях скачем, аль горит ретивое? — крикнул весело палач и, выбив из — под ног висельника скамейку, с дикой усмешкой гаркнул. — Ноги в воздух. Получай!
Мгновенно стало тихо. Затрепетало тонкое, хрупкое тело юноши, судорожно закорчилось, мотаясь по воздуху, описывая круги и вздрагивая в конвульсиях. Ноги инстинктивно искали опору и не находили ее. А палач неистово быстро затягивал все туже и туже петлю, и из хриплой гортани вырывались комья ругательств. Наконец, в последний раз вытянулось тело удавленного и замерло. В мертвой тишине что — то хрястнуло, — это лопнули шейные позвонки, и тело стало еще более длинным и неподвижным.
И врач, стоявший в сарае с часами в руках, смотрел на минутную стрелку, недовольный лишь тем, что она будто движется слишком медленно. Он сердился на время, протекавшее тягуче — лениво, и облегченно вздохнул, когда прошли установленные процедурой повешения пятнадцать минут. Тогда врач подошел к трупу, пощупал скрюченную, уже синеющую руку казненного и, не находя биения пульса, сделал знак рукой.
-Готово.
Воробьев перерезал ножом веревку. Труп тяжело грохнулся на землю. Расширенным, сумасшедшим взглядом впился Брауде в прах того, кто несколько минут назад жил, разговаривал, кто был его другом до последней минуты, до последнего вздоха…
-На последних твоих минутах принеси покаяние перед господом, он облегчит… — сказал священник, подступая с крестом к Брауде.
-Лучше скажите, чтобы сняли с меня пальто… — ответил приговоренный хрипло. — Неловко…висеть…
-Можно, можно. — милостиво кивнул Директор Департамента, услышавший просьбу приговоренного. — И в самом деле, пальто снимите.
Лицо у Директора было желтовато — бледным и слегка обрюзгшим. Усталые глаза смотрели внимательно и строго. Улыбка теплилась только на губах, совершенно не затрагивая властных серых глаз, деловито и холодно наблюдавшими за палачом.
Воробьев и один из стражников сноровисто принялись снимать с Брауде пальто.
-Не понимаю, я то зачем здесь присутствую? — негромко, хмурым голосом поинтересовался прокурор, не сводивший глаз со своего удивительного ножичка.
-Помилуйте, а как же — с законность соблюсти? — Директор Департамента усмехнулся, покосившись на ухоженные руки прокурора и ножичек.
-Нет ни решения суда, ни приговора. Откуда здесь, в этом гаражном сарае законности взяться? — возразил прокурор.
-Вы вспомните, как карал Иоанн Грозный. Без присяжных обходился. Да — с…Не помню, кто сказал, какой — то просвещенный европеец, кажется: «Беря на себя миссию правосудия, где — нибудь да нарушишь закон»…Не слышали? Не считайте меня грязным палачом, не люблю. — сказал Директор. — Я с вами в открытую, верно ведь?
-Честно говоря, не совсем понял, отчего вы так откровенны?
-Вы человек дела, склонны совершать поступки, нюансы улавливаете верно, к интригам равнодушны, устройством карьеры не занимаетесь и перед начальством зря не выпячиваетесь, до пенсиона года полтора осталось. — ответил Директор.
-Два.
-Хорошо, два года до пенсии…Особо рефлексировать не станете. Бывают такие моменты в жизни державы, я бы сказал, роковые моменты, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью отечества. — медленно, словно нехотя, сказал Директор Департамента. — Вы меня понимаете?
-Стоять на высоте не всегда удобно и безопасно. — вздохнув, ответил прокурор. — Головокружение нередко оставляет радость развертывающихся далей. А если человек поднялся на верхотуру не для бескорыстного созерцания, а для работы, то ему угрожает вполне реальная опасность скатиться в пропасть…
-Государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные меры, чтобы оградить себя от распада. Понимаете? Это состояние необходимой обороны. Оно доводило государство не только до усиленных репрессий, оно доводило государство до подчинения всех одной воле, ежели хотите, произволу одного человека, оно доводило до диктатуры, которая иногда выводила государство из опасности и приводила к спасению.
-Но такого рода временные меры не могут приобретать постоянного характера. — поспешно возразил прокурор. — Когда они становятся длительными то, во — первых, они теряют свою силу, а во — вторых, они могут отразиться на народе, нравы которого воспитываются законом.
-Эта казнь — временная мера, уверяю вас, господин прокурор. Временная мера — мера суровая. Она должна сломить преступную волну, она должна сломить уродливые явления и после отойти в вечность.
-Ответьте мне откровенно: вас, лично вас самого, не воротит от всего этого?
-От чего этого? Договаривайте. — Директор сделал непроницаемое лицо.
-От лжи.
-Не воротит. Как и вас, иначе и не затеял бы я с вами этот разговор. Разве не ведомо вам, как скверна разъедает наше государство?
-Скверне не мстят, ее вычищают.
-Работа такая у нас у всех, господин прокурор. Грязная. По этой грязи мы и идем. Поверьте, Россия сумеет отличить кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных врачей, применяющих самые чрезвычайные, может быть, меры, с одним только упованием, с одной надеждой, с одной верой — исцелить трудно больного. Скажу откровенно: что прежде всего нужно для того, чтобы удержать имперское здание? Нужны новые кадры борцов, нужна полная перегруппировка всех живых сил страны, нужно появление людей нового типа и преисполненных новою волей. Вы согласны?
Не дожидаясь ответа прокурора, Директор подошел к священнику, за плечи обернул:
-Идите, идите, батюшка, идите…
Отец Варсонофий пригнулся, мелко — мелко закрестился, крест прижал, оглянулся, и безмолвно, бочком отступил к фургону.
-Голубчик вы мой, — Директор почти ласковым, елейным голосом, обратился к измученному приговоренному. — Посмотрите на себя внимательно. Вы — революционер. Одни, революционеры — утописты. Добиваются революции потому, что сознают — их общественный идеал так далек от действительности. Что от основ существующего порядка к нему не может быть легального перехода. Ее может хотеть и тот, кто не стремясь ни к чему невозможному, в своем нетерпении хочет всего и сразу и потому предпочитает медленному и верному пути эволюции хотя и рискованный, но зато, как ему кажется, более быстрый путь революции. Ее принимают и те, кто на существующий государственный строй смотрят так безнадежно, что не верят в возможность его улучшения, считают его клеткой, которую нужно разбить, чтобы выйти на волю. Те, наконец, у кого главный движущий стимул есть ненависть к существующему порядку, кто разрушение его ставит самостоятельной целью, не задаваясь вопросом, что будет потом, как на войне, прежде всего стремятся к победе не помышляя об условиях мира. Это, голубчик мой, главные разновидности серьезных и подлинных революционеров. Есть и другие, так называемые революционеры по недоразумению. Есть честолюбцы, которые любят саму обстановку революционных переворотов, так же как иные любят военное дело. И войны, и революции предъявляют спрос на особые свойства характера, открывают для тех, кто одарен этими свойствами перспективы исключительных успехов и возвышений, дают им из «ничего» сделаться силой. Поэтому есть профессиональные революционеры, как есть профессиональные любители военного дела, которым в конце концов все равно за кого и за что воевать. А кто вы?
-Я? Я не знаю, право… — Брауде был совершенно сбит с толку и ответил сбивчиво. — Но, именно здесь и именно в такую минуту, вы решили порассуждать о главных разновидностях серьезных и подлинных революционеров?
-Да, где — то вы правы, все как — то времени не было раньше об этом поговорить…Иные любят революцию «со стороны», из эстетики и снобизма. — продолжил Директор. — Иные любят революцию « со стороны», из эстетики и снобизма. Это любители героического в жизни, ценители сильных характеров и ощущений, принципиальные ненавистники умеренности и осторожности, неустанно жалующиеся, что мирным путем ничего добиться нельзя, а когда им удается мирному пути помешать, с гордостью указывающие, что они оказались пророками подобные революционеры часто мечтают о революции лишь потому, что не дают себе труда подумать о том, что же из нее получится. И есть, наконец, «пушечное мясо» всех революций: озлобленные и желчные неудачники, которым в условиях обыкновенной жизни нечего делать, которые рады всякому перевороту уже потому, что если они на нем и не выиграют, то наверное ничего не потеряют.
Все это время приговоренный Брауде, ухмыляясь, зыркал во все стороны. Когда увидел, что палач петлю спускает с крыши, он внезапно забился у стражника в руках. Палач сделал мертвую петлю, просунул веревку сквозь скобу в потолке, а свободный конец ее прикрепил к столбу и крикнул:
-Есть!
Обреченного рывком подняли, поставили на стол, затем водрузили на табуретку, и прежде чем несчастный успел опомниться, шея его уже была в петле виселицы.
-У нас с вами есть еще пара минут, прежде чем вас удавят, и я хотел бы этими минутами воспользоваться, чтобы завершить свою мысль… — сказал Директор, глядя на Брауде снизу вверх. — В идеологии всех сторонников революций есть одно общее свойство, без которого революционером вообще быть невозможно; все они не дорожат старым порядком. Конечно, в отношении их к России целая гамма чувств, начиная с простого к ней равнодушия и кончая такой глубокой ненавистью, при которой одно уничтожение старого уже кажется «завоеванием». Ненависть к тому, что существует, может быть не менее действенной силой, чем преданность идеалу. Было бы несправедливо видеть в таком отношении к России отсутствие любви к своей родине, как это иногда говорят в порядке полемики. Нельзя заставлять любить недостатки, и в России есть много бессмысленного, жестокого и даже гнусного. Но в глазах людей революционного настроения эти недостатки до такой степени занимают первое место, что покрывают собою все то, исторически необходимое и полезное, что в державе было за этими недостатками скрыто.
-К чему вы мне все это говорите? — тихо спросил измученный ожиданием смерти приговоренный.
-Голубчик, должно быть ясно для всех, что в стране, насыщенной злобой, социальной враждой, незабытыми старыми счетами, в стране политически довольно отсталой, падение исторической власти, насильственное разрушение привычных государственных рамок и сдержек не могут не перевернуть общества до основания, не унести за собой всей старой России. Разве можно это допустить? Ну, вспомните, милейший, своих друзей и знакомых, оглянитесь мысленно на прожитую жизнь, — даже те, кто не хочет ничего утопического, стремящиеся к демократическим принципам, к идеалам, к которым медленно и с зигзагами, но все — таки неуклонно идет развитие русского государства, даже эти люди часто не боятся, а жаждут революционного переворота! В нем они видят единственную гарантию серьезного, не фиктивного улучшения, устройства жизни на постоянных народных началах. Старый строй им органически чужд. При нем они себя дома не чувствуют. А ведь таким путем к преобразованию страны идти нельзя. Воля народа или, что тоже — воля его большинства вообще очень редко ценит уважение к праву. Нужно большое политическое воспитание, чтобы народ понимал благодетельное значение «права», которое ограничивает его собственный произвол.
-Именно поэтому вешаете вы, и вешаете без суда? — несчастный произнес эти слова с вызовом.
-У нас с вами в данный момент коллизия такова: или мы вас, или вы нас. Другого пока не дано…И да, еще один момент… — Директор будто бы спохватился, сказал озабоченно, но с легкой усмешечкой на губах. — Так сказать, в утешение вам…Знайте же — умираете вы за правое дело.
Палач Воробьев оттолкнул ногой табуретку, которая с грохотом полетела на пол гаража…Тело Брауде, извиваясь в предсмертных судорогах, повисло на веревке…
…Когда все было кончено, и казненных, смотревших стеклянными взглядами, волоком протащили к хлебному фургону, священник широким жестом крестил покойников и заунывно забормотал молитву. Воробьеву подали бутылку вина. Сняв маску, вино он пил залпом, обжигаясь, словно кипятком, еле переводя дыханье…