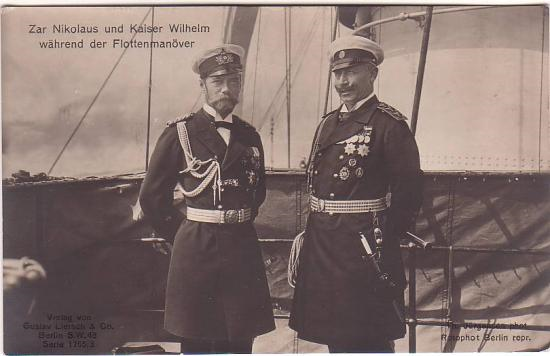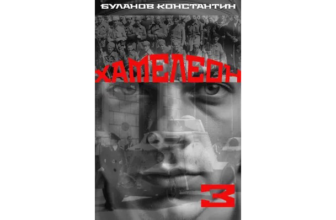«Дети железного века» (3-я новая редакция) — 4.
Воскресенье. В лето 7436 года, месяца октября в 27 — й день (27 — е октября 1928 года). Седмица 21-я по Пятидесятнице, глас третий.
Москва. Гутмановская рабочая слобода.
Даурия была в этой части Москвы впервые. В 1923 году, когда правительству удалось победить инфляцию, на востоке столицы, в Гутмановской слободке, недалеко от Нижегородского вокзала, за Рогожским кладбищем, началось строительство сразу двух крупных жилых комплексов. Один предназначался для рабочих и служащих Московско — Курско — Нижегородской железной дороги, другой взялась строить Городская дума, решившаяся на реализацию широкой программы строительства доступного жилья, чтобы заменить каморки в дешевых доходных домах, трущобы и бараки на светлые, сухие квартиры с водопроводом и канализацией.
Первым строили гигантский дом для железнодорожников, с фасадом чуть не с версту длиной, с полутора тысячами квартир, рассчитанных на пять с половиной тысяч человек, с огромными дворами, с садами, площадями и дорожками. Здесь каждой семье полагалась отдельная квартира, причём большинство из них были двухкомнатными, площадью под восемьдесят четыре аршина, без малого. Как правило, в квартире была кухня, но ванную комнату чаще всего заменяли душевые павильоны во дворе. Стиркой и глажкой хозяйкам предлагалось заниматься в специальных общедомовых помещениях, оборудованных стиральными машинами и гладильными досками. Для детей обустроены были детские ясли, игровые и спортивные площадки, небольшие бассейны во дворах, для досуга взрослых — библиотеки, комнаты для репетиций дворовых оркестров, и даже залы собраний, где проводились концерты и представления общественных театральных кружков.
Архитекторы особо не стали витийствовать — комплекс нес в себе влияние амстердамской школы, но казался монотонным, «благодаря» не совсем продуманному делению, ритму и окраске фасадов.
Второй жилой массив, строившийся Городской думой, выглядел монументальнее — с «пилонами», огромными флагштоками, ризалитами и парадным двором. Квартир, семидесятиаршинных, правда, было поменьше — около тысячи, но все они имели ванные комнаты.
Строительство обоих комплексов началось почти одновременно, и закончилось через три года, чуть ли не день в день. Городские власти проложили к массивам трамвайную линию от Рогожской заставы, железнодорожное ведомство дополнительно еще и перестроило старое, деревянное, маленькое здание Нижегородского вокзала, отстроив его буквально заново, сделав строго функциональным. Нижний этаж был окружен навесом на столбах, что дало дополнительное закрытое от дождя и солнца помещение. Верхняя часть вокзала была несколько уже нижней, с глухими торцовыми стенами. Фасад почти сплошь был застеклен. Внутри вокзал устроен был просто и целесообразно.
Даурия сошла с трамвая, не доезжая остановки до нужного дома. Гигантский дом ей был не нужен. Нужен был «обнакновенный» — пятиэтажный дом, возвышающийся напротив нефтяных складов «Бранобель». Даурия прошла во двор, аккуратно проверяясь от филеров, поднялась на второй этаж. Позвонила. Дверь открылась сразу…

Воскресенье. В лето 7436 года, месяца октября в 27 — й день (27 — е октября 1928 года). Седмица 21-я по Пятидесятнице, глас третий.
Москва. Гутмановская рабочая слобода.
…Сквозь штору просвечивало унылый московский октябрьский вечер. Накрапывал дождь. Ручейки дождя смывали желтые трамвайные билеты.
Женщина в кровати сонно дышала, повернувшись к окну. У нее было тонкое, почти красивое, бледное лицо, с серыми, чуть навыкате глазами, каштановые локоны, чувственные губы. Кожа, нежная, неестественно — нежная кожа отливала чем — то голубым, а тени под грудью и сосками были оранжевыми. Внезапно она проснулась и присела на кровати, даже не думая прикрыть свою развитую красивую грудь.

Генерал Дрозд — Бонячевский стоял у окна, глядя на женщину. У него был вид человека, погруженного в глубокое раздумье. Женщина встала и подошла к окну, но генерал даже не почувствовал ее присутствия. Он смотрел теперь пристально на пустую постель со смятыми простынями. Лицо его не меняло выражения, а глаза словно были лишены жизни.
Женщина нежно довела генерала до постели, усадила на простыни. Он вдруг, словно очнувшись, спрятал свое лицо на ее плече, начал всхлипывать, как ребенок.
-Успокойся. — сказала женщина.
-Дашенька, ты прожила довольно сумбурную жизнь, неужели теперь ты можешь говорить со мною о каких — то пустяках? Чтобы ни случилось, как бы ни велик был соблазн, как ни искренни будут просьбы об этом, каковы бы ни были обещания, ты не должна им верить.
-Даже, если эти обещания — твои?
-Если они — мои, то тем более. Послушай…Послушай меня, Даша…В царской охранке сидят дьяволы. Тем или иным путем они захватят в свои когти того, за кем следят, и тогда нет ему спасения.
-Хорошо, милый. — она увидела, как тускло блеснули его глаза. — Но я уверена, что ничего не случится.
-Я дорожу тобою, Даурия… — он обнял ее.
-Я верю. Помнишь, как ты меня нашел? И подобрал? Помнишь?
…Генерал помнил. Конечно, помнил. Он в самом деле подобрал ее — озябшую, в куцем пальтишке, на бульваре у Реформатского сквера в Вильне…Бульвар горел огнями, отсвечивающимися в окнах магазинов, в лужах у бортов тротуара. Все эти огни — красные желтые, синие, золотые, зеленые, постоянные горизонтальные мигающие, косые, размещенные всюду, где только можно было их устроить, говорили только одно: купи и возьми. Он высунулся из автомобиля и скользнул по ней равнодушным взглядом. Тогда Даурия распахнула пальтишко: чулки кончались атласными подвязками, потом шли батистовые, в смятых воланах, панталоны на тесемках, а больше на теле ее ничего не было…И глаза остались подтянутыми к вискам, а скулы обрисовались отчетливее, она сделалась похожей на японку. Генерал, ошеломленный, вышел из машины, грубовато взял ее за руки, на мгновение ужаснувшись своей грубости. Потом, в его машине, в криках и судорогах, она выказала ему такую страсть, что он едва не сошел с ума. Было все: оглушительное сердцебиение, полуобморок, долгий озноб блаженства…Разве такое забудешь?
-…Ладно, давай пройдемся по легенде еще раз…
-Я кончила гимназию. Отец погиб в какой — то очередной туркестанской пограничной стычке, когда мне было двенадцать лет. У моей матери не было средств дать мне высшее образование. Кормить себя я была вынуждена сама, а потому начала искать службу секретаря — стенографистки. Я была маленькая, не очень крепкая здоровьем секретарша в каком — то русско — чешском ссудно — сберегательном банке. Писала стихи, много и целеустремленно читала, восполняя пробелы своего образования. Хотелось узнать по возможности больше из того, что мог дать университет.
-И узнала?
-С лихвой…Только это были отнюдь не университетские знания. Это была жизнь. И в ней было много чего, грязного, неприятного, унизительного. Нашлось место и тюремной камере, и ночевкам в подвалах и на чердаках. Я дошла до самого дна, в самом худшем смысле — я торговала собой за кусок хлеба и стакан водки. Я жила инстинктом…Разум оказался очень слабым по сравнению с инстинктом, да…Инстинкт был ближе к первозданному хаосу, из которого вышли мы все. И разум умер. А впрочем, не заморачивайся. Это был мой выбор. Мой свободный выбор, хотя возможен ли он вообще? Ведь мы ведем себя так, как будто он существует. Одним словом…Мне одной надлежало решать, что я приемлю и что себе разрешаю. В конце — то концов, к черту условности, которые даже не я устанавливала!