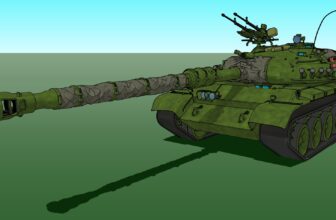С разведкой у РККА всегда были ну О-очень большие проблемы. В т. ч. и техническими средствами. Бронеавтомобили имели никудышную проходимость, страдали от перегрузки и лучше всего подходили для патрульных функций на прифронтовых дорогах.

Малые плавающие танки-разведчики Т-37А и Т-38 плохо ездили, плохо плавали, а их предельно ужатые габариты, ничтожные внутренний объём и никакой запас плавучести, не позволяли им эффективно «работать» по своей прямой специальности.

Все попытки подыскать им замену, упирались в формулу «шило на мыло».
Однако. После того, как в 1937 году в РККА сменилось очень много «ответственных товарищей», и были пересмотрены многие программы, КБ танкового з-да №37 в подмосковных Мытищах, получило заказ на новый плавающий танк-разведчик (будущий Т-40). Однако, что из этой разработки получится, учитывая все предыдущие неудачи, никто предугадать не мог.
Да и вера в малые плавающие гусеничные танки-разведчики была уже настолько основательно «подмоченной», что АБТУ решило, на всякий случай, «подстраховаться» и предложило КБ ХПЗ, разработать лёгкий колёсно-гусеничный танк-разведчик. Одна такая попытка уже была – ещё при Тухачевском, мечтавшем о ПЛАВАЮЩЕМ колёсно-гусеничном танке-разведчике, но вполне ожидаемо провалилась. От него просто слишком много хотели при смешных размерах.

Понимая, что сложная задача – это долго, АБТУ в лице тогдашнего его начальника Бокиса, решило её предельно упростить. Он предложил разработать КГ танк-разведчик на базе серийного танка БТ-7. Из башни выкинуть пушку и её боекомплект, заменив на крупнокалиберный пулемёт. А на освободившемся месте, разместить оборудование для разведки (стереотрубу, буссоль, стол-планшет, и, возможно, радиостанцию с большим радиусом действия). Ну и, разумеется, на крыше башни, предусмотреть площадку для установки всего этого богатства.
Танк-разведчик сделали и показали Ворошилову, который даже поддержал предложение АБТУ выпустить пробную партию в 50 таких танков. Но, «не срослось». Завод не имел ни малейшего желания возиться с такой машиной, а армии не понравилось то, что её фактически поставили перед дилеммой «размена» нормального боевого «линейного» танка, на слабо вооружённый, «узко специализированный» разведчик. Да ещё в «не хорошей» пропорции. «Хотите 50 разведчиков? Получите! Но, вместо сотни обычных БТ, поскольку с мелкосерийными разведчиками возни больше. Выбирайте!».
Ну и, последним гвоздём в крышку гроба – в распоряжении ни ГАУ, ни АБТУ вообще не оказалось крупнокалиберных пулемётов (и без того мелкосерийный ДК-32 поставлять армии уже прекратили, а его модернизированную версию ДШК-38 ещё вообще не выпускали).
Как то пережив этот облом, Бокис вспомнил, что не суррогатный, а настоящий специализированный КГ танк-разведчик, массой всего ок. 8 т. ещё в начале 30-х, предлагал разработать на базе БТ, председатель НТК РККА военинженер Тоскин – направленный УММ РККА из Москвы на ХПЗ, для разработки на базе танка Кристи, его отечественной версии – того самого БТ. Но, тогда в таком танке-разведчике, РККА заинтересованности не выказала. Не до него было! И сейчас, учитывая загруженность КБ ХПЗ, эту работу Бокис предложил КБ Опытного з-да №185.
Не привязанные ни к одному серийному заводу, «свободные художники» КБ Опытного з-да, встретили этот «банальный» заказ без энтузиазма и в качестве «встречного предложения», решили «осчастливить» РККА очень хитрым КГ танком-разведчиком совершенно новой конструкции, подсмотренной у шведской фирмы «Ландсверк». Её «фишечкой», было то, что для перехода с гусеничного на колёсный ход и обратно, экипажу не нужно было покидать своих «рабочих мест». Вообще не нужно было выходить из танка. Всё делала сложная механика.

Но, увы. С разработкой этой «вундервафли» те «свободные художники», ожидаемо, не справились (точнее в процессе разработки оказалось, что при данной конструкции, уложиться в приемлемый для ходовки вес, невозможно). Да даже если бы и получилось, завода, который осилил бы такую лютую технологическую «новинку», в СССР не было.
Сменивший вскоре Бокиса Павлов, принципиально не стал поощрять «изощрённую» встречную инициативу «свободных художников» и просто и конкретно, в жёсткой форме, повторил «задачу Тоскина» сделать лёгкий 8-тонный танк-разведчик на базе БТ-7. Да ещё (по отсутствию ККП) трёхместный, с 45 мм пушкой!
Но, увы. И это задание КБ 185-го Опытного з-да провалило, создав очередную, избыточно сложную конструкцию, к тому же, не уложившись в заданную массу. В самом деле, Павлов хотел танк уровня БТ-7, да ещё со специальным оборудованием, с массой 8 тонн против 14! «Инреал» как сейчас говорят. Но ведь КБ 185-го Опытного з-да, считало себя «самыми умными»… По сути, Павлов просто поставил тех «самых умных» на место, тонко намекнув, что они, ещё даже до уровня Тоскина (обещавшего такой танк «папы» всех наших БТ) не доросли. А понтов-то было, понтов-то…
Так, к концу 30-х, единственным новым танком-разведчиком РККА, оказался опять малый плавающий танк (будущий Т-40), появившийся слишком поздно и, увы, повторивший в той или иной степени, все проблемы своих предшественников Т-37А и Т-38. Конструкторам не удалось от них избавиться в полном объёме, поскольку им для этого не хватило… объёма. Как «литража» (а значит и мощности) СУ, так и объёма корпуса танка. Он опять получился слишком маленьким, тесным, двухместным и потому с ограниченными возможностями в плане разведки.

Но, Павлов, предвидя такой исход и ни на грош не веря в чудо, что «свободные художники» осилят заказ, сразу после ухода Бокиса (в РИ арестован и расстрелян как контрреволюционер-террорист, в АИ просто переведён на другую работу «по специальности»), и, уже будучи наслышанным о стиле и результатах работы КБ Опытного 185-го з-да им. Кирова, решил параллельно, выдать заказ на танк-разведчик на базе БТ-7 и КБ 183-го танкового з-да (бавш. ХПЗ) где сейчас разрабатывали новый БТ-20.
Да, как и Бокис, Павлов прекрасно понимал, что КБ ХПЗ загружено, но, поскольку в КБ далеко не у всех конструкторов сложились нормальные рабочие отношения с новым «пришлым» начальником Кошкиным, из самых недовольных, Павлов предложил создать отдельную бригаду, усилить её группой «адекватных» специалистов КБ Оытного з-да №185 (которым уже надоело «чудить», раз за разом обманывая ожидания РККА) и выпускниками ВАММ. И этой «бандой», разработать тот самый КГ танк-разведчик.
Но, «банда» оказалась «не промах»! Танк она выдала не простой. Но и без всяких «заморочек» со всевозможными «ноу-хау», какие очень любили в КБ 185-го Опытного з-да.
За видимостью модификации БТ-7, скрывалась существенно обновлённая, но при этом, не слишком сложная конструкция. КГ-ход с приводом на не 2 задних колеса (по одному с каждого борта, как у обычных БТ), и не на все 6 колёс, кроме управляемых – как на БТ-9/20, а на четыре (по два с каждого борта). Двигатель – ещё разрабатываемая (с 1935 года) шестицилиндровая рядная половинка дизеля БД-2 (В-2) мощностью 200-220 л.с. (в данной АИ называется В-3).
Вооружение – обещанная любимцем Сталина Шпитальным, автоматическая 20 мм пушка (модификация им же разрабатываемой зенитки) под очень мощный патрон Рейнметалл, с обойменным питанием. Пушками под такой патрон, вооружались немецкие зенитчики и танки Pz-II (в серию «двоечка» пошла как раз в 1938-ом году). Эффективность такой пушки Павлов оценивал достаточно высоко – её снаряд, без труда мог пробить броню любого тогдашнего советского лёгкого танка. А уж очередью… Как же хорошо, что у немцев в Испании не было танков с такими пушками!
Экипаж планировался в три человека. Как у обычного БТ. Но, есть одна «фишечка». С танком управлялись двое, а третий, был специально обученным разведчиком, полностью освобождённым от любых других функций. Благо, пушка — автомат.
Разработка такого танка, доставила конструкторам массу хлопот.
Большие проблемы исходили от малого ресурса опытных дизелей, которые ещё даже не пытались начать выпускать серийно. Но КБ ХПЗ это мало волновало – там разрабатывали танк! А проблемы двигателистов-дизелистов их касались сугубо «постольку-поскольку», со слепой верой в их «гений» (ну прям как в авиации!).
Тем более, что и мощности того дизеля, для танка размерностей БТ-7 слегка не хватало – даже при уменьшенной толщине брони, что кстати, Павлов не одобрял.
Шпитальный, так же никак не мог довести до ума свою «замечательную» пушку.
В общем, объективно, тему ждал тихий провал.
Но, упорный труд и умение наших людей не только преодолевать, но и обходить препятствия, сделали своё дело.
В первой половине 1940-го года, на испытания вышел-таки очень интересный танк-разведчик.
Да, он напоминал БТ-7. Но! Оказавшийся довольно компактным и при этом даже чуть более мощным, чем предполагалось, 220-сильный дизелёк, позволил уменьшить длину МТО и отказаться от одного катка с каждого борта. Поскольку каток этот был и не ведущим, и не управляемым, это пошло танку только на пользу – танчик стал легче (без потери проходимости – благо масса танка была существенно меньше), имел лучшую проходимость и лучшую управляемость. Благодаря тому же дизелю – он имел значительно больший запас хода. На гусеницах, очень лёгкий 9-тонный танк мог разгоняться до 60 км/ч, а на колёсах до 80!
Вот только чтоб более-менее уложиться в заданную массу, толщину бортовой брони корпуса пришлось уменьшить до 9 мм – чего, впрочем, было вполне достаточно против обычных винтовочных пуль, а обеспечить защиту против пуль крупнокалиберных пулемётов и противотанковых ружей, было невозможно даже на обычном серийном БТ-7! Так какой смысл возить броню, которая против винтовочных пуль уже избыточная, а против крупнокалиберных, заведомо недостаточная?
Зато лобовую броню корпуса, на случай всяких неожиданных встреч, удалось довести до тех самых 25 мм – которые вполне «держали» пулю крупнокалиберного пулемёта и немецкого ПТР винтовочного калибра, благо конструкцию передней части корпуса с такой бронькой, на ХПЗ отработали, ещё когда трудились над БТ-9/20.
Башню использовали стандартную – коническую, от БТ-7, но с одним нюансом – сиденье разведчика (в БТ-7 заряжающего) сделали переставляемым на три уровня. Нижний – штатный. Средний – для постоянного визуального наблюдения – когда голова разведчика-наблюдателя выглядывает из люка до уровня глаз – что позволило не городить специальную наблюдательную башенку. И, наконец, верхний – поднимавший наблюдателя ещё выше – для удобства работы со спец оборудованием, устанавливаемым на крыше башни во время остановок. (Всё равно пользоваться им при движении машины было невозможно).
В качестве основного вооружения, вместо 45 мм пушки (и, увы, по отсутствию 20 мм автопушки Шпитального), в качестве временного варианта, поставили крупнокалиберный пулемёт ДШК обр. 38 г. обеспечить массовый выпуск которого, в данной АИ, было одной из принципиальных задач военпрому. А ещё, ГАУ и АБТУ потребовали всемерно ускорить разработку и производство бронебойных пуль к патронам ДШК (которых для ДК-32 вообще не выпускали).
Но, всё это были «напрасные хлопоты». В мае 1941 года, началась установка 20 мм танковой автоматической пушки ПТА-20, созданной на базе 20 мм авиационной пушки ШВАК, разработанной специально для ЭТОГО танка раньше, чем в РИ разработали ТНШ-20.
Танк ещё не был принят на вооружение, и даже ещё не завершил испытаний, когда у всех «заинтересованных лиц» возник вопрос (вопросище!), хде-ж его выпускать-то…?
Руководство 183-го танкового з-да, только руками замахало – ХПЗ в самой форсированной форме готовился к массовому выпуску нового среднего танка, который разрабатывали основные силы его КБ и, ни о каких дополнительных заданиях на выпуск танка-разведчика, и слышать не хотело «хоть убейте!» (тем более, что и выпуск арттягачей с завода никто не снимал). Напротив, руководство завода было готово с удовольствием передать свои, уже не нужные технологии по БТ, «любому желающему»!
И этим «любым желающим», с подачи Павлова и Кулика, решением СТО, стал реконструируемый 174-й танковый з-д им. Ворошилова, при котором строился (точнее разворачивался из прежнего моторного цеха, где выпускались двигатели к танкам Т-26) большой двигательный кластер – под выпуск тех самых 200-сильных дизелей. Этими дизелями, предполагалось оснащать арттягачи – выпуск которых так же был поручен 174-му з-ду, и в конструкции которых, так же использовались многие решения ходовки танка БТ.

174-й танковый з-д в этой АИ, с 1935 года начал «перепрофилирование», для перехода с выпуска танка Т-26, на выпуск САУ на шасси танка БТ, и тех самых арттягачей.
А спустя два года, реконструкцию завода «повернули» в русло следования за танковым заводом №183 (бывш. ХПЗ), чтоб продолжить новую «традицию». Если прежде, 183-й выпускал танки БТ-7, а 174-й – САУ на шасси БТ-7 и арттягачи, то теперь, когда 183-й готовился развернуть массовый выпуск нового, уже среднего танка (будущего Т-34), 174-й, соответственно, должен развернуть выпуск САУ, уже на его шасси. Но, пока, даже собственно танк ещё находился в доработке и, никаких САУ, кроме САУ на шасси БТ ещё и в помине нет, главной продукцией завода (помимо тех САУ на шасси БТ), стали артягачи, где так же применялись многие конструктивные решения БТ. (Для тех кто не в курсе – до освоения в серии 200-сильного дизеля, арттягачи 174-го з-да оснащались такими же 131-сильными моторами, что и артягачи «Коминтерн» производства ХПЗ).
Так что, для завода, освоить ещё и ГК танк-разведчик на шасси БТ, было не так уж сложно. Тут вопрос скорее упирался в промплощади для танка-разведчика, которые имелись лишь до той поры, пока завод не начал выпускать САУ на шасси Т-34. «Расширяться» 174-му танковому заводу, было, в общем-то, уже и некуда – все «свободные» площади в окрестностях завода, «съело» расширение двигательного кластера, под те самые дизеля…
Полная реконструкция 174-го з-да была успешно завершена на рубеже 40-41 годов, но поскольку САУ на шасси Т-34 ещё только разрабатывались, арттягачи и танки-разведчики на какое-то время стали основной продукцией. Точнее на плановый выпуск танка-разведчика, завод вышел только в марте 41-го. Причём с привлечением мощностей, которые впоследствии (не позже июля 41 года) предполагалось задействовать в обширной программе выпуска САУ со 107 мм пушками на шасси Т-34.
И это была последняя «реинкарнация» полугусеничного семейства БТ.

В войсках разведчик БТ-10Р показал себя быстрой, выносливой и надёжной машиной. А специальное оборудование (для которого хватало места, а в экипаже имелся специалист для работы с тем оборудованием), позволяло вести эффективную разведку. При этом, слабость вооружения (20 мм пушки начали устанавливать только с конца мая, да и те были не шибко мощными) и бронезащиты, оставляли экипажам не слишком много шансов на выживание, при плотном огневом контакте с противником накоротке (если, конечно, речь шла не о пехоте с сугубо лёгким стрелковым вооружением).

Но, иметь даже такой лёгкий специализированный разведчик, было гораздо лучше, чем не иметь вообще никакого. А по сравнению с плавающим Т-40, это был НАСТОЯЩИЙ разведчик! Тем более что 37-й танковый з-д, выпускал мало Т-40 (при хороших ходовых качествах, как разведчик, он был не сильно лучше Т-38), поэтому, основной продукцией подмосковного завода, были лёгкие арттягачи для противотанковой и полковой артиллерии механизированных дивизий. А ещё, на том же 37-ом з-де, начались работы по созданию нового плавающего танка под всё тот же 200-сильный дизель… по сравнению с которым, Т-40 был уже не танком, а каким-то маленьким бесперспективным недоразумением (эта тема в следующей статье цикла).
Что касается БТ-10Р, к началу войны, его выпуск прилично вырос (как уже говорилось, были задействованы промплощади, на которых с июля предполагалось развернуть выпуск мощных 107 мм САУ на шасси Т-34), а после 22 июня, он стал для 174-го завода приоритетным видом продукции, выпуск которого форсировали! Но ненадолго. Уже 25 июня 1941 года, вышло постановление ГКО о развёртывании на 174-ом танковом заводе выпуска танка Т-34 – благо, реконструированному заводу в принципе было всё равно что выпускать – танк Т-34 или САУ на его шасси (как планировалось изначально).
Но это процесс не быстрый. А война между тем шла. Война же, нашла для шасси танка-разведчика БТ-10Р ещё одно актуальное применение – в качестве быстроходной противотанковой САУ. Т. н. «лёгкого истребителя», вооружённого 57 мм пушкой ЗиС-2 (которую ни с производства, ни с вооружения никто не снимал, поскольку идиотский аргумент «избыточной мощности», в АИ никто всерьёз воспринимать бы не стал – любая «избыточная мощность» таковой быть перестаёт с увеличением дальности, что крайне благоприятно сказывалось на здоровье «противотанкистов»).

Учитывая потребности фронта, в июле-августе, 174-й танковый завод полностью перешёл на выпуск танка Т-34. Но из имеющегося задела, было собрано ещё несколько десятков «истребителей» БТ-10И.