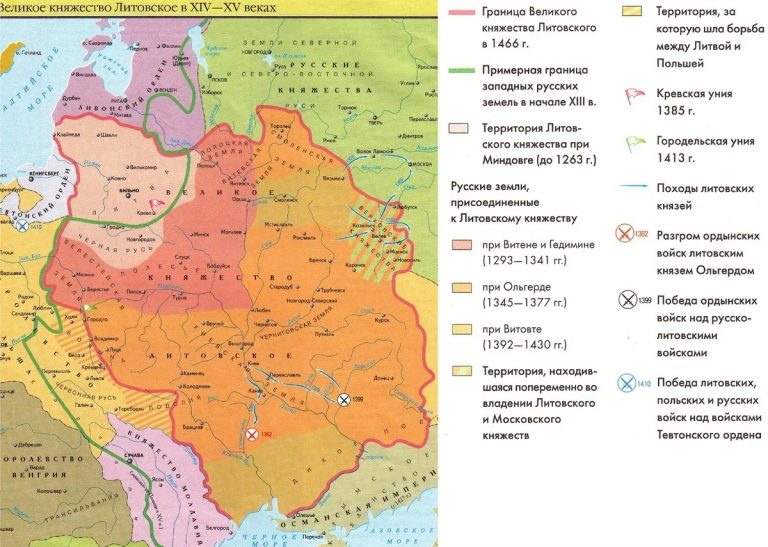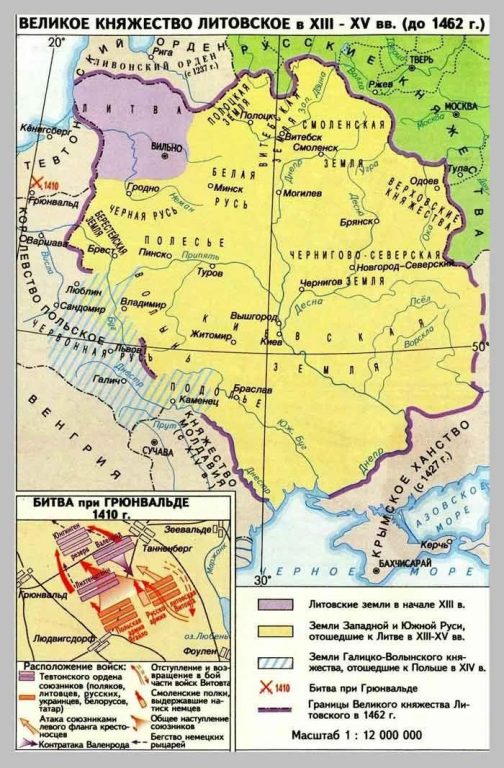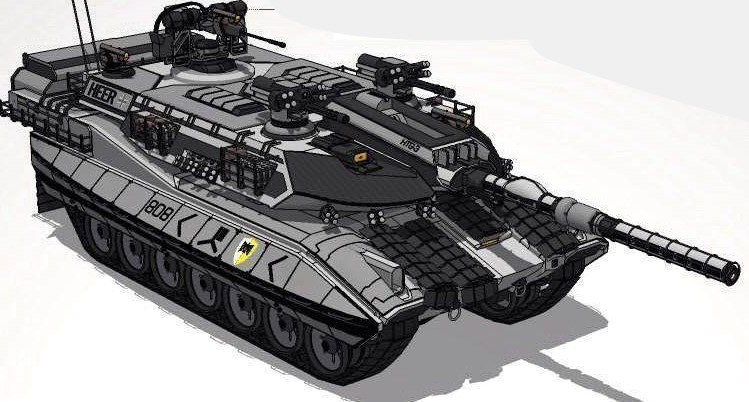В XIV в. в общих чертах определился состав правящей элиты ВКЛ. В него входили князья (в подавляющем большинстве родственники правителя) и наиболее знатные, родовитые литовские бояре — «приятели» монарха. Каждая смена правителя на виленском престоле начиная с середины XIV в. сопровождались внутренними конфликтами, а потому влекла за собой изменения в составе правящей элиты. Новый монарх, с одной стороны, приводил с собой своих сторонников, с другой — должен был найти тот или иной modus vivendi с окружением своего предшественника. Физическое устранение его членов было исключением: любой правитель был заинтересован в укреплении своей позиции, а не в увеличении числа недовольных, поэтому стремился интегрировать реальную или потенциальную оппозицию в свое окружение. Необходимо подчеркнуть, что продолжавшая всё это время экспансия Литовского государства на русские земли не вела к интеграции их знати в правящую элиту этого государства. В ближайшее окружение монарха по-прежнему входили
немногочисленные князья и литовские бояре.
В результате к началу XV в. основную часть правящей элиты ВКЛ составляла верхушка литовского боярства. В одну группу входили бояре из окружения Ягайла, которым (или потомкам которых) удалось интегрироваться в правящую элиту и при Витовте. Известны примеры Михаила Минигайла, который долгое время в конце XIV в. был ошмянским старостой, в 1393 г. упоминается в должности виленского старосты, а в 1413 г. — виленского каштеляна, и Андрея Гаштольда — кревского старосты в 1398–1401 гг.; высокое положение занял в дальнейшем и его сын Ивашко (Ян) Гаштольд. Вероятно, такова была судьба Альберта Монивида и его родственника Станислава Чупурны — наиболее влиятельных вельмож в окружении Витовта. Боярин Братоша (родоначальник Зеновичей), также занявший высокое положение при Витовте, в 70–80-е годы XIV в. служил полоцкому князю Андрею Ольгердовичу, а затем Владиславу Ягайлу и его брату Скиргайлу.
Многие бояре происходили из окружения самого Витовта или его отца Кейстута. Специальные исследования «боярской» части правящей элиты ВКЛ при Витовте показывают уже отмеченную особенность — отсутствие в ней боярства русской части ВКЛ. Почти все бояре, входившие в окружение Витовта, исповедовали католицизм, православными были лишь Братоша с сыновьями и Ходко Юрьевич. Однако их вотчины находились на территории Литовской земли — к югу от Новогородка и Городна.
Состав правящей элиты удобно проследить на примере договоров Витовта с соседними государствами (Польшей, Тевтонским орденом). Эти документы снабжались списками свидетелей — подданных великого князя, которые могли гарантировать исполнение их условий. В конце XIV — первой трети XV в. ВКЛ дважды возобновляло унию с Польшей (в 1401 и 1413 гг.) и четырежды заключало «вечный мир» с Тевтонским орденом (1398, 1404, 1411, 1422). В историографии, особенно в польской, можно встретить утверждение, что участие «общества» в этих актах было результатом унии с Польшей. В действительности же такая практика существовала и ранее: об этом свидетельствует хотя бы договор Ягайла и Кейстута с Тевтонским орденом 1379 г. или Кейстута — с мазовецкими князьями…
Обращение к документам этих соглашений показывает, что большинство их гарантов — это бояре, входившие в «ближний круг» Витовта, в подавляющем большинстве литовского происхождения и католического вероисповедания. Православных бояр в этих перечнях совсем немного — уже названные Братоша и его сын Зеновий, а также Ходко Юрьевич, который появляется в Мельненском договоре 1422 г. с высокой должностью полоцкого наместника. Спорадически появляются и другие лица, формы имен которых могут указывать на их русское происхожденние и/или православное вероисповедание — например, некий Федор Львович с братом Юшкой (1401), идентификация которых была предметом разнообразных гипотез в историографии. Удельные князья присутствуют в этих списках не всегда — по-видимому, лишь в тех случаях, когда они находились в военном лагере по окончании боевых действий (1411, 1422) или когда их участие требовалось, чтобы подчеркнуть значение данного акта (1398, 1401, 1422). На первом месте стоят имена католических епископов.
Фактическое привилегированное положение, обретенное литовским боярством в XIV в., после унии с Польшей было закреплено в привилеях — специальных актах, фиксировавших сословные права и привилегии. Первый из них был выдан польским королем Владиславом Ягайлом во время крещения литовцев в 1387 г. Важнейшее положение документа гласит, что литовские бояре могут владеть землей на тех же правах, что и польские шляхтичи, и свободно отчуждать ее по согласованию с великим князем. Повинности литовских бояр привилей ограничивал до участия в походах, ремонта и строи-тельства замков. Эти привилегии предоставлялись лишь литовским боярам-католикам. Следующий шаг был сделан в Городельском привилее Ягайла и Витовта 1413 г. Если первый привилей предоставлял свободы экономического плана широким кругам литовских бояр, то Городельский привилей, расширяя и конкретизируя их, добавлял к ним политические права, адресованные верхушке этой общественной группы — членам боярских родов, получившим польские гербы (принятым в польские гербовые братства).
Этим актом в ВКЛ учреждались должности воевод и каштелянов по польскому образцу — прежде всего в Вильне и Троках. Их, как подчеркивалось в привилее, могли занимать только католики. Они же получали исключительное право в совещаниях с великим князем. Городельский привилей фиксировал участие литовских бояр в политической жизни страны еще в одном отношении: в нем отмечалось, что они «изберут» нового великого князя после смерти Витовта, а также будут участвовать в избрании польского короля после смерти Ягайла.
Представители верхушки литовского боярства не только занимали основное место в правящей элите ВКЛ, но и получали больше всего пожалований от великого князя. В XIII–XIV вв. их материальное обеспечение имело главным образом форму даней, пожалований из великокняжеской казны и трофеев, захваченных в военных походах. Это объясняет заинтересованность литовского боярства в экспансии ВКЛ на Русь. Такая форма вознаграждения никуда не исчезла и при Витовте, и впоследствии (разве что походы стали менее активными), но в конце XIV в., уже при Ягайле и Скиргайле, наметился переход от временного держания сел к получению бенефициев. Великокняжеские пожалования положили начало формированию боярских латифундий.
Члены окружения господаря получали от него имения прежде всего в Литовской земле, реже — в «русской» (по тогдашней терминологии) части будущей Белоруссии. Наконец, пожалования в южных и восточных землях ВКЛ были исключением, поскольку их отдаленность от основных владений (вотчины) того или иного вельможи затрудняла управление ими. Имело смысл жаловать там земли крупнейшим и влиятельнейшим феодалам, поскольку те могли наиболее эффективно способствовать защите интересов Литовского государства в этих регионах. Так, в 1407 г. виленский наместник Альберт Монивид получил от Витовта земли на Смоленщине близ границы с Московским княжеством. Смоленская земля была окончательно включена в состав ВКЛ незадолго до этого, в 1404 г., и Витовт был заинтересован в ее закреплении за своим государством в условиях шедшей тогда войны с Московским великим княжеством (1406–1408).
Таким образом, если на русских землях ВКЛ местная знать в значительной степени сохраняла свою власть и собственность (а последнюю и приумножала), то в общегосударственном масштабе ее роль была весьма скромной. Такая ситуация не была следствием одного из привилеев или актов унии с Польшей, но стала результатом более длительного развития.