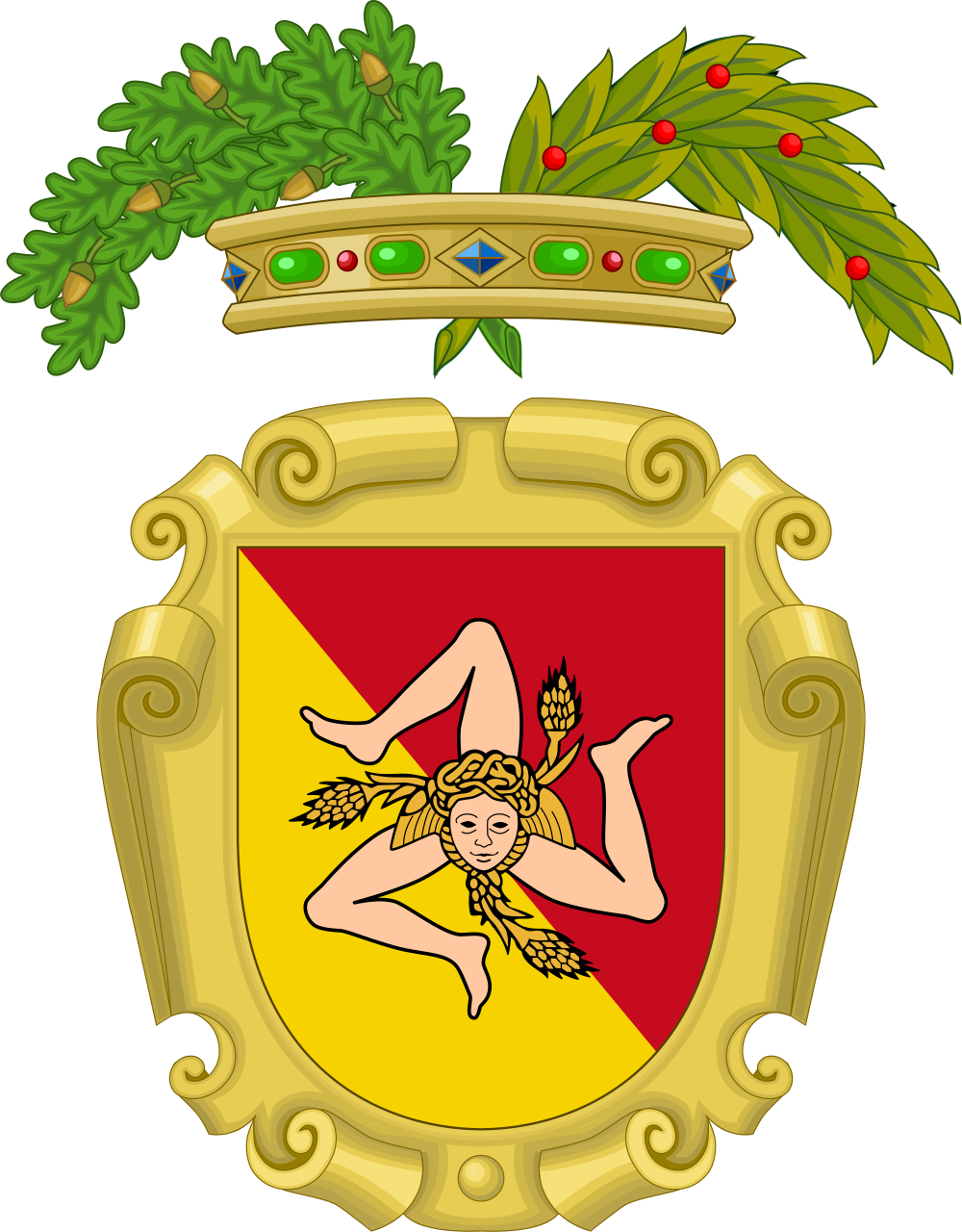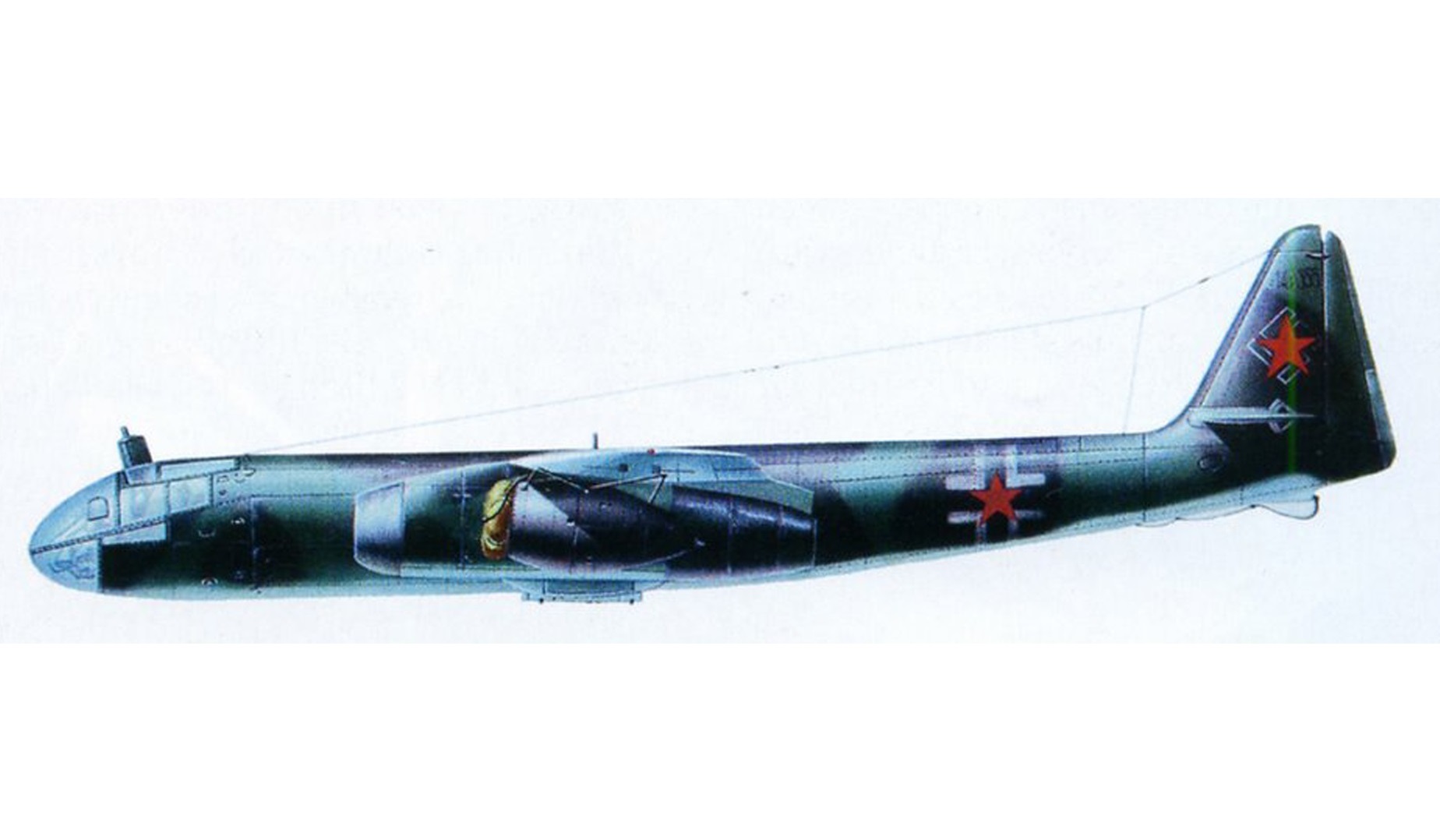Глава XIII. Чезаре II Витторио. Правление Констанции Сицилийской (Pax Italica)
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Продолжаю публиковать свой альт-исторический цикл Pax Italica, и сегодня речь пойдет о «правлении» Чезаре II Витторио ди Фиренце. Рассказано будет об окончании войны за корону Сицилии, социально-экономических и социально-политических проблемах конца XIII века, и начале Проторенессанса.
Содержание
Чезаре II Витторио ди Фиренце
Принц Римлян, Чезаре Витторио ди Джованни Чезаре ди Чезаре ди Фиренце, ставший в 1288 году королем Чезаре II Витторио, был монархом-неожиданностью. С детства отец старался включать его в государственные дела, назначил управлять Сицилией после 1282 года, включил в состав Королевского Совета, но мало кто на самом деле знал его в лицо, и тем более мог дать исчерпывающую оценку его личности. Лишь после гибели Джованни IV Чезаре в сражении у Тибра он вышел на люди, и эти люди…. Не увидели никакого внятного содержания в личности Чезаре Витторио. Нельзя сказать, чтобы он был совершенно глуп или апатичен, но может ли служить хорошей характеристикой короля, к примеру, ежедневное чтение богословских книг на латыни, пристрастие к вкусной еде или наблюдение за природой в качестве любимого увлечения? При этом Чезаре Витторио имел плохо поставленную речь, не самую большую силу воли, и плохое здоровье, из-за которого он часто болел. По итогу же он был очень простым человеком, а в качестве короля являлся величиной, едва ли отличимой от нуля.
К счастью, это компенсировалось удачным браком. Женой Чезаре Витторио была Констанция фон Гогенштауфен, дочь последнего короля Сицилии из этой династии, Манфреда, погибшего в 1266 году в битве при Беневенто. Женщиной она была сильной, волевой и умной, умела завоевать популярность своих поданных, и эффективно использовать ее в своих интересах. Население Сицилии боготворило свою королеву, континентальная Романья немногим отставала от островитян. Ей посвящали свои победы на турнирах, посвящали баллады и мечты. При всем этом Констанция была девушкой благочестивой, и хранила верность супругу несмотря на огромное количество мужчин, пытавшихся завоевать ее сердце. Одним из них был лучший полководец Романьи, Гвидо да Монтефельтро, с которым королеву связывали определенные отношения – но сугубо платонические: для воина и рыцаря важнее был прекрасный образ дамы сердца, чем искренняя и взаимная любовь или ее подобие. В браке с Чезаре II Витторио Констанция родила 7 детей, но только 4 прожили более 6 лет, и лишь двое дожили до совершеннолетия.
- Джованни Витторио (1280-1338), Принц Римлян. Женат на Элеоноре Анжуйской (1289-1341).
- Джованни Чезаре (1284-1350), принц, герцог Тосканский. В 1311 году отрекся от романского титула ради титула герцога Афинского, суверенного правителя одного из осколков Латинской империи [1]. Женат на Елизавете Каринтийской.
В итальянской историографии XIX-XXI веков установилась традиция брать слово «правление» относительно Чезаре II в кавычки. Причина проста – сам он никак не участвовал в управлении государством, о чем прямо указывали современники и потомки. После коронации в 1288 году он продолжил жить, как жил до этого – не уделяя внимания ничему серьезному, сосредоточившись исключительно на своих очень простых занятиях и удовольствиях. Единственными крупными государственными событиями, в которых он реально принимал участие, стали его собственные коронация и похороны. Это значило, что власть в Романье сосредоточилась в руках Королевского Совета и его викария, которым еще при жизни Джованни IV Чезаре стала принцесса, а после – королева Констанция. Ее власть опиралась на популярность среди пополанов и авторитет в гибеллиновских кругах. Гвидо да Монтефельтро, как лидер партии гибеллинов в Романье, и как тонкий политик и интриган, всячески поддерживал власть королевы. Все это обуславливало напряженные отношения с гфельскими государствами Италии и Римом на протяжении всего «правления» Чезаре II Витторио, за исключением лишь небольших периодов, в первую очередь – во время завершения войны за корону Сицилии.
Корона Сицилии и Флорентийский союз
Несмотря на победу Романьи в сражении у Тибра, общая стратегическая ситуация все равно оставалась патовой – сил для решительного наступления на Неаполь у нее не было, король погиб, а командующий войском, Гвидо да Монтефельтро, был тяжело ранен, и на какое-то время выбыл из строя. Схожая ситуация была и у анжуйцев – их предводитель, Карл Валуа, из-за ранения отошел от управления королевством, французский монарх, Филипп IV, был далеко. Обе стороны уже успели основательно истощить друг друга и без баталии у Тибра, но ее потери оказались настолько серьезными, что военные действия в 1288 году пришлось прекратить. В этом же году был избран новый папа, францисканец Николай IV. Одним из его приближенных был Джулио ди Фиренце, брат нового романского короля, да и с орденом францисканцев Флорентийский дом связывали прочные узы дружбы. И королева Констанция увидела в сложившейся ситуации возможность заключения мира, которого хотели уже обе стороны.
Карл II, находящийся в плену у романцев, к тому моменту успел сдружиться с королевой, которая относилась к нему как к королю с самого начала. Ее великодушие, честность и благочестие вызывали у него уважение, и начальный антагонизм к Романье стал сменяться более мирными чувствами. Когда в бою погиб Джованни IV Чезаре, то с ним умерло и то поколение государственных мужей Италии, которое начало войну за корону Сицилии. Новое поколение получило возможность договориться миром. Папа Николай IV стал посредником, и настоял на том, чтобы переговоры с анжуйской стороны возглавил лично Карл II, для чего его требовалось освободить. Констанция Сицилийская пошла на риск, и отпустила его безо всяких условий, еще раз подтвердив свои высокие моральные качества, которые окончательно покорили освобожденного. Прибыв в Неаполь, он застал анжуйскую партию в полном раздрае, и без труда взял власть в свои руки, после чего пошел на мирные переговоры. Проходили они в Риме, под прямым контролем папы как посредника и сюзерена обоих государей. Констанция (от имени супруга) и Карл Анжуйский подтвердили вассальные договора с Римом, а затем стали договариваться о мире друг с другом, основанном на компромиссе.
После длительных переговоров и согласия папы, корона Сицилии была официально разделена на две части, романскую и анжуйскую. Дабы уровнять их по статусу, корона Сицилии как таковая осталась ничейной, и вернулась в распоряжение папы. Собственно остров Сицилия стал называться королевством Тринакрия, и вошел в состав Романьи в этом качестве, в то время как анжуйская континентальная часть стала Неаполитанским королевством. Обе стороны обменивались пленными, освобождали сторонников друг друга от репрессий, и заключали союз «во имя сохранения мира в Италии». Дабы закрепить его, Флорентийский и Анжуйский дома обязывались заключить брак между собой. Поначалу планировалось выдать замуж за романского наследного принца дочь Карла, Маргариту, но по политическим причинам ее супругом стал Карл Валуа. Кроме того, она, будучи старше своего первого жениха на 7 лет, плохо подходила ему. Вторая дочь Карла II, Бланка, также не стала романской принцессой, выйдя замуж за Хайме II Арагонского, чем фактически был скреплен тройственный союз между Флоренцией, Неаполем и Барселоной. Лишь третья и самая младшая дочь Карла, Элеонора, вышла замуж за Принца Римлян Джованни Витторио, и в будущем стала королевой Романьи. Кроме того, папа со своей стороны посмертно снял отлучение с Джованни IV Чезаре, а также вернул в лоно церкви Романью и Сицилию.
Результаты затяжной войны, которая в общей сложности продлилась 20 лет, стало окончательное утверждение новой политической карты Италии, и нового расклада сил в регионе. В южной части континента плотно обосновался Анжуйский дом, ослабленный, но все еще достаточно сильный, чтобы Неаполитанское королевство оставалось значимым игроком в Средиземноморье. Папство сохранило контроль над Патримонием (Лацио), но не смогло расшириться за счет возвращения в свой состав земель Романьи, которая теперь контролировала почти всю Центральную Италию, и всю ее островную часть за исключением Корсики. Флорентийский дом и его государства стали однозначными лидерами в Италии, хоть и заметно ослабли из-за прошедшей войны. Северная Италия сохранилась в своем изначальном виде – множество коммун и феодов, две республики (Генуя и Венеция), и почти никакого внятного центра силы. Правда, к концу XIII века здесь усилилась коммуна Милана, которую возглавил род Висконти, но она еще не представляла собой значительной силы, уступая и Генуе, и Венеции, и даже Савойе. Эпоха противостояния гвельфов и гибеллинов постепенно уходила в прошлое – несмотря на сохранившийся антагонизм и деление на партии, границы обоих течений стали еще более размываться в свете переменчивой политики императоров и понтификов. Вместо этого началась эпоха доминирования государственных (коммунальных, политических, династических) интересов, где ориентация на императора или папу была уже не такой важной. Во главе этого процесса шла, конечно же, Романья, где гвельфы и гибеллины уже во 2-й половине XIII века заключили союз против анжуйцев и профранцузского папы Мартина IV.
Решив проблему с разделом Сицилийской короны, романцы и неаполитанцы заодно лишились большинства поводов для серьезных конфликтов, и стали сближаться. Собственно, союз между ними был заключен еще по условиям договора 1288 года, но тот был чистой формальностью. Благодаря деятельности королевы Констанции между государствами в 1292 году был заключен уже фактический союз, причем к нему присоединился также Хайме II, король Арагона. Общей целью трех государств была защита Средиземноморья от мусульманской угрозы, борьба с сарацинскими пиратами, которые вновь активизировали свои набеги на христианские берега, и отстаивание интересов католической церкви. Объединенные флот и армия трех государств являлись самой грозной силой в регионе. Союз, названный по месту заключения Флорентийским, целиком одобрил папа Николай IV – правда, успевший это сделать лишь незадолго перед смертью. Он надеялся, что союзники смогут отправиться в крестовый поход на Святую Землю, и вернуть Иерусалим, но не успел организовать его как следует, а Констанцию Сицилийскую подобные перспективы и вовсе не привлекали. Из-за этого вопрос о Десятом крестовом походе на время повис в воздухе.
В 1294 году на смену Николаю IV пришел Целестин V, но в том же году он отрекся от папского престола, и следующим понтификом стал Бонифаций VIII. Тот вновь поднял вопрос о новом крестовом походе, что было особенно актуально в свете потери крестоносцами в 1291 году последних континентальных владений на Ближнем Востоке. Новый поход был объявлен в 1295 году, однако сразу же встретил ряд проблем как со стороны церкви, так и со стороны Флорентийского союза – ни одно из королевств не могло себе позволить отвлечение крупных сил для похода на восток, а финансовая поддержка со стороны церкви оказалась значительно скромнее, чем ожидалось. В результате этого под давлением монархов Бонифаций VIII «перенаправил» наметившийся крестовый поход с Иерусалима на Африку, и сделал главной целью именно то, ради чего создавался Флорентийский союз – борьба с арабскими пиратами, действовавшими из портов Северной Африки. Эту цель восприняли с большим воодушевлением и арагонцы, и романцы, и неаполитанцы, к ним присоединились также Генуя, Венеция и Франция, хотя две итальянские торговые республики в это время вели ожесточенную войну за торговле влияние в Восточном Средиземноморье.
На деле, правда, вместо масштабного крестового похода у христианских правителей вышла череда самостоятельных и разобщенных военных кампаний против отдельных африканских портов, продлившаяся с 1296 по 1300 годы. Результаты их оказались достаточно спорными. С одной стороны, христианам сопутствовал несомненный успех – несмотря на все разногласия, по сарацинам был нанесен мощный удар. Количество пиратов в море на какое-то время сократилось, были разорены и сожжены многие приморские города Северной Африки. С другой стороны, христианам не удалось закрепиться в этом регионе, дабы целиком ликвидировать опасность набегов, в результате чего возвращение старой угрозы было лишь вопросом времени. Единственным исключением стало закрепление романцев на территории античного Карфагена, где в 1297 году высадилась королевская армия, а в 1298 году было решено построить на этом месте христианский оплот со старым античным названием. Государство Хафсидов, которое владело этими территориями, попыталось отбить их, но христианские крестоносцы разбили их армию, и смогли удержать подступы к Карфагену до 1300 года, когда внешняя черта пока еще хлипкой крепостной стены не была завершена [2]. Не имея возможности вытеснить романцев из окрестностей своей столицы, Туниса, хафсидский халиф перенес свою ставку в Кайруан, старую столицу Ифрикии. По иронии судьбы, решение о строительстве крепости Карфагена было вынесено ровно в тот же день, когда после обильного ужина скончался Чезаре II Витторио.
Новые владения, новые проблемы
С присоединением к себе территории Сицилии Романья впервые получила под свой контроль территории, которые кардинально отличались по уровню развития и организации от ее собственных, а не просто отставали от нее в развитии, как это было с Сардинией. На Сицилии были свои традиции, свои законы, особое социально-политическое и социально-экономическое устройство. Конечно, и Гвискары, и Гогенштауфены всегда старались держать феодалов в узде, ограничивали их власть, старались загнать в жесткие рамки закона, и вообще выстраивали централизованное государство, что по своей сути было близким к Романье. Кроме того, собственно сицилийские феодалы всегда отличались менее буйным нравом, чем континентальные из Южной Италии, и именно они играли одну из основных, государствообразующих ролей, формируя Королевский Совет. Однако также сицилийцы отличались своеволием, и не желали унификации их территории с континентальной Романьей, надеясь на сохранении автономии своего острова вместе со старыми порядками, и недопущения кого-либо кроме них самих в управление Сицилией. И в этом крылась большая проблема, так как романский государственный аппарат уже успел выработать вполне конкретные принципы политики по этой части, требовавшие унитаризма устройства государства, и централизации власти во Флоренции.
Поначалу, с 1282 года, управление Сицилией было оставлено на старом уровне. При этом в качестве вице-короля в Палермо прибыл тогда еще Принц Римлян, Чезаре Витторио ди Фиренце вместе с супругой Констанцией. Именно она на деле и выполняла функции наместника на острове, пока шла война, при этом постоянно находясь в разъездах между Палермо и Флоренцией. Сицилия в это время имела собственный Королевский Совет, и управлялась исключительно местными администраторами. В 1288 году, после заключения мира, королева Констанция решилась на первую крупную перемену – административную реформу, которая требовалась для включения представителей острова в состав романского Сената. Реформа эта встретила определенное сопротивление со стороны местной знати, но все же была проведена твердой рукой к 1290 году. К тому моменту ряд сицилийцев попал в ряды Королевского Совета Романьи, а два романца стали частью правительства на острове. Довольно быстро возмущение реформой сошло на нет, так как островная знать поняла, что постоянное представительство при короле на континенте ей только на руку. А вот вторжение романских купцов местная знать восприняла куда более болезненно. При этом романцы и раньше хозяйничали в торговле на острове, но лишь внешней, а после 1282 года они получили возможность вмешиваться и во внутреннюю торговлю, где всем заправляли феодалы, обладавшие меньшими капиталами и навыками торговли, а значит менее конкурентоспособные. Кроме того, романские купцы оказались сильно недовольны недостаточно продуктивным местным хозяйством, которое могло бы приносить гораздо большие прибыли, и пожаловались на это вице-королю, которым к тому моменту стал Руджеро Мастранджело. Вице-король принял их слова к сведению, но ничего делать не стал, так как опасался реакции феодалов. Тем не менее, начало расколу между романцами и сицилийцами было положено.
Сказывался и другой фактор, связанный с местными порядками. Да, сицилийские короли традиционно предъявляли к феодалам жесткие требования, добились срытия большинства их замков на городе, и законы романского общества были не так уж чужды им. Но вместе с кратковременным правлением анжуйцев местные землевладельцы вдохнули воздух феодальных вольностей, который надолго их отравил. Будущее Тринакрии они видели лишь как сугубо феодального государства, где им будет позволено столько же, сколько было позволено французам при Карле I. Уже с 1282 года часть феодалов стали восстанавливать свои замки, начался захват земли, до того находившийся в королевском домене, ужесточилась эксплуатация крестьян. Масла в огонь подлило решение переселить на остров беженцев из Южной Италии, смешав их с романскими поселенцами, в результате чего образовались новые сельские коммуны. По-романски они считали себя свободными, и подчиняющимися лишь префекту дистретто, но сицилийские феодалы считали себя их верховными властителями, и стали оказывать на них серьезное давление. Большое количество мелких безземельных дворян на Сицилии привело к тому, что у феодалов появились свои небольшие армии, которые могли свободно терроризировать крестьян, а города на острове были куда как слабее, чем на континенте, и опять же контролировались местными феодалами. В Палермо и Флоренцию пачками шли жалобы на произвол местной знати, но Констанция, опасавшаяся потери острова, предпочитала ничего не предпринимать, оставляя все как есть – не наказывая феодалов, но и не легализируя их начинания после восстановления законов Фридриха II в 1289 году.
Между тем, романское господство даже без серьезных перемен всколыхнуло социально-экономическую жизнь на острове, и стало серьезным стимулом к росту экономики. Сицилия издревле была знаменита как житница, и могла своим зерном прокормить огромное количество людей – а продовольствие было одной из постоянных головных болей коммун Романьи. Кроме того, на острове были богатые леса и пастбища для скота. Проблема заключалась в том, что для нормального возделывания всего этого хозяйства требовалось гораздо больше населения – по разным оценкам, в два, три, а то и четыре раза. Невысокой была и культура сельского хозяйства, отстающая от континентальной весьма ощутимо. Заполучив Сицилию, торговые круги Романьи собирались получить огромные прибыли, но на деле столкнулись с серьезными проблемами местной экономики. Это заставило купцов обратиться к королеве Констанции, а она в свою очередь предприняла ряд мер по улучшению экономической ситуации на полуострове. Старая налоговая система, буквально изматывающая население, была заменена романской – и эту перемену сицилийцы в целом одобрили, так как впервые за много десятилетий подати значительно уменьшились. Началось массовое переселение крестьян на остров, причем во главе каждой группы поселенцев ставились те земледельцы, которые хорошо знали, что такое высокая культура сельхоза, и должны были научить ей местных. Заброшенные земли возделывались вновь, основывались новые промыслы – рыболовные, лесозаготовительные, завозились породы овец, чья шерсть высоко ценилась производителями с континента. Мгновенных результатов эта деятельность не дала [3], но именно меры, предпринятые королевой Констанцией в конце XIII века, станут причиной интенсивного роста производства сельхоз продукции Сицилии во 2-й половине следующего столетия.
Положение городов на Сицилии также изменилось. При Гвискарах и Гогенштауфенах города, как и на континенте, развивались, росли и служили центрами торговли и ремесленного производства. Однако нормальному их развитию мешали три фактора – доминирующее положение землевладельческой знати, общий дефицит рабочей силы на острове, и тяжелое налоговое бремя. Последний фактор после окончания войны был ликвидирован, но остальные два убрать было не так-то просто. Тем не менее, влияние континентальной Романьи все же сказывалось – многие ремесленники и купцы подхватили основные тенденции, вступили в ряды общих организаций, и стали активно приобщаться к единому государственному рынку. Дефицит рабочей силы в городах стал перекрываться за счет той же миграции – производство продукции на острове, из-за низкого уровня развития, имело низкий уровень конкуренции, и потому многие ремесленники и наемные рабочие с континента покидали свой родной дом, чтобы осесть в городах Сицилии, и заняться своим ремеслом там, ориентируясь на внутренний рынок. В наибольшей степени эти процессы затронули столицу острова, Палермо, но заметное увеличение производства товаров началось также и в других крупных городах – Мессине, Катании, Сиракузах и Марсале. Это привело к тому, что былая зависимость от ввоза ряда ремесленной продукции стала уменьшаться, при увеличении внутреннего спроса за счет интенсификации земледелия и роста числа крестьян, что лишь подстегнуло рост местного производства [4]. Конечно, ряд романских купцов, которые получали большие прибыли за счет отсталой Сицилии, были возмущены подобной ситуацией, но на сей раз их жалобы королева Констанция оставила без внимания, целиком удовлетворенная полученным результатом.
Проторенессанс
Бурная история Романьи, начиная с самого момента ее создания, неизбежно накладывала отпечаток на менталитет ее народа и культурные процессы, которые шли внутри государства. Защита интересов Рима, войны с императорами, противостояние между гвельфами и гибеллинами, Тридцатилетняя война, быстрая деградация феодализма в пользу городских коммун – все это расшатывало традиционные средневековые устои, и создавало предпосылки для формирования чего-то нового, более прогрессивного. Окончательный толчок произошел в тот момент, когда, во-первых, по сугубо политическим причинам Романья выступила против Папы Римского, в то время как сам Святой Престол дискредитировал себя рядом решений, а во-вторых – Романья, не декларируя собственных претензий на объединение всей Италии, стала продвигаться к этой цели де-факто, включив в свой состав Сицилию. Это дало мощный толчок к революции в менталитете общества, его культуре, переосмыслению романцами действительности, и стремлению к новым идеалам. Начался рост антиклерикализма и переосмысление религиозных канонов и мотивов в сторону возвышения человека как божественного творения. Стали появляться пока еще несмелые идеи и предположения, которым суждено будет спустя несколько поколений оформиться во всемогущую идею гуманизма. В Романье, а вслед за ней и во всей Италии начиналась эпоха дученто, первого этапа Проторенессанса.
Одной из основ будущего гуманизма стала решительная отмена крепостного права в Романье в 1295 году. Крепостные (сервы, либеллярии и другие группы крестьян, которые сохранили свои названия лишь по инерции мышления) на территории Центральной Италии и без того были довольно немногочисленными, и к концу XIII века даже в самых густонаселенных дистретто их численность крайне редко превышала отметку в 10 тысяч человек, а чаще всего была в разы меньше нее. Тем не менее, они все еще сохранялись в распоряжении крупных землевладельцев, и служили надежной основой для их владычества, тем самым сохраняя феодальные тенденции в хозяйстве государства. Коммунальные синьории и городские дельцы были заинтересованы в том, чтобы ликвидировать эту основу, и юристы Болоньи с 1281 года разрабатывали соответствующий закон по освобождению крестьян, который поддержала местная церковь. В 1289 были отпущены на волю болонские крепостные, в 1291 этой группы населения уже не осталось во всей Романье, а в 1295 году акт об освобождении всех крепостных крестьян был подписан королевой Констанцией, и вступил в действие во всех владениях Флорентийского дома [5]. На континенте и Сардинии он не встретил серьезного сопротивления, но вот сицилийская знать оказалась недовольной таким решением, и решила попросту игнорировать его. Кроме того, акт 1295 года коснулся также статуса домашних рабов. Сам институт рабства на тот момент на территории Италии не имел шансов на ликвидацию, так как для этого требовалось закрыть невольничьи рынки, а они находились вне границ Романьи. Тем не менее, для романских домашних рабов, покупаемых на этих рынках, вводилась законодательная защита, которая определяла их новый статус как наемных рабочих с пожизненным контрактом, а значит за преступление против них следовало такое же наказание, как и против обычных жителей государства.
Развитие культуры Проторенессанса в первую очередь коснулось архитектуры и скульптуры. Массивные формы романского стиля стали более изящными, а относительно реалистичные средневековые скультптурные черты перешли в полный реализм. Эти два направления искусства оказались тесно связаны друг с другом, и потому Арнольфо ди Камбио (1245-1310), один из первых ярких представителей дученто, был одновременно и архитектором, и скульптором. Королева Констанция заприметила молодого мастера вскоре после свадьбы с Чезаре Витторио ди Фиренце, и стала оказывать тому поддержку. В результате всю свою жизнь ди Камбио провел в разъездах по Романье, где по его проектам строились храмы, палаццо, фонтаны и другие сооружения, а зависимости от пожеланий коммуны. Особый след он оставил в активно расширяющемся городе в Абруцци, Аквиле, который в 1298 году станет столицей провинции. Вместе с ним работали также братья Пизано, Никколо и Джованни, которые составят очень продуктивный творческий триумвират, оставивший значительный след в истории Романьи. Были и иные архитекторы и скульпторы в это время, но они или проявляли скромность в своем творчестве, или банально не достигли таких же успехов, как Камбио и братья Пизано.
В живописи также имелся прогресс, но он начался позднее, чем в архитектуре, и не успел еще набрать те высокие обороты. Тем не менее, и здесь уже заметны были перемены – от классического церковного стиля, весьма условного, рисунки стали приобретать более реалистичный, осязаемый вид, с материальной убедительностью, но пока еще в рамках общехристианского канона. Основной тематикой живописи также остаются религиозные мотивы, а главным полем для творчества служит храмовая живопись – написание икон, роспись стен и куполов, и т.д. Можно выделить пять выдающихся художников дученто – Джотто ди Бонде (или просто Джотто), Пьетро Каваллини, Пьетро и Амброджо Лоренцетти, Ченни ди Пепо (Чимабуэ). Из них один (Каваллини) творил в Риме, двое (Джотто и Чимабуэ) послужили основателями флорентийской школы живописи, а еще двое (братья Лоренцетти) уже в начале XIV века заложили основу сиенской школы. Были и другие живописцы, выходящие за рамки средневековой «классики», сформировавшие еще одну, отдельную школу итальянской живописи Проторенессанса – луккано-пизанскую. Один из ее представителей, Марко Пизано [6], жил и творил при дворе королевы Констанции, составляя иллюстрации в стиле дученто для романских хроник.
В литературе сдвиг намечается с середины XIII века, в первую очередь благодаря Салимбене да Парма (монаху-францисканцу) и Риккобальдо да Феррара, эстафету у которых подхватил Джованни Виллани. Они писали в основном на церковные темы, хотя постепенно явно намечалась тенденция к описанию светских событий, или смешивании их с сугубо церковными. Но главным из них стал Данте Алигьери, флорентиец, поэт, мыслитель и богослов. Его основная деятельность пришлась на начало XIV столетия, но уже в конце предыдущего века он заслужил определенную популярность во Флоренции, участвовал в политике и слыл достаточно ученым мужем, чтобы дать неуемному принцу Джованни Витторио уроки высокой и вульгарной латыни. Будучи гвельфом, он являлся ревностным сторонником мира и тесного сотрудничества Рима с Романьей, но также и понимал, что Папы Римские не безгрешны, а потому далеко не всегда их требования к романцам правомерны [7]. Данте, как и его последователям, суждено будет стать своеобразной партией мира в высшем свете Флоренции и Романьи, что не раз скажется на ходе истории. Однако самым ценным вкладом в развитие культуры Италии стало формирование благодаря усилиям Алигьери на основе «вульгарной» латыни, а точнее ее тосканском диалекте, нового, итальянского литературного языка. Популярность и влияние писателя, а также успех его творчества приведут к тому, что уже к середине XIV века литературный итальянский язык станет популярен не только во всем регионе, но и постепенно станет заменять в Романье латынь в качестве основного языка делопроизводства. Окончательное утверждение его в качестве государственного произойдет уже после смерти Данте Алигьери, но помнить о его великом вкладе потомки будут еще долго, а самого писателя станут титуловать «последним поэтом Средневековья», «первым поэтом Ренессанса», «отцом итальянского языка», или даже «отцом итальянцев».
Показательным было то, что практически все основные деятели дученто родились и выросли в Романье, которой правил Флорентийский дом, и многие пользовались успехом при королевском дворе. Королева Констанция Сицилийская оказывала им протекцию, помогала деньгами, заказами, даже допускала их влияние на принятие ряда политических решений. В поздние годы она даже называла Данте Алигьери в шутку «моим сыном», подчеркивая близкие отношения с поэтом и политиком. В качестве покровителя искусства королева стала первым выдающимся правителем эпохи Возрождения, которую будут приводить в пример и пытаться превзойти потомки. Учитывая, что в политике Констанция повторила славную романскую традицию иметь на престоле сильных женщин, заложенную в основе самого государства Матильдой Каносской, а с точки зрения христианства она была честной и благочестивой особой, нет ничего удивительного в том, что в конце концов ее беатифицировали, а затем и канонизировали в конце XIV века. Именно ее будут считать настоящей правительницей Романьи в 1288-1298 годах, да и, по большому счету, так оно и было. Став одной из главных участниц объединения Романьи с Сицилией, эта женщина, одна из последних живых Гогенштауфенов, стала в результате великой итальянкой, и встала в один ряд с другими деятелями культуры, которые заложили основу величественного Возрождения.
Примечания
- Об этом – в следующей статье.
- Вот такой вот забавный альтернативно-исторический казус получается – христиане закрепляются в Северной Африке в том месте, где некогда был Карфаген. Ну и ирония судьбы в том, что римский Карфаген располагался рядом с городом Тунис (античный Тунет), а тот был столицей Хафсидов. Т.е., романцы приобретают крепость прямо на виду у столицы мусульманского государства. Удержать ее, правда, будет нелегко….
- Дай бог подтянуть Сицилию на романский уровень сельхоза к концу XIV века – уже хорошо будет. А учитывая сельхоз потенциал острова, это может принести огромные прибыли, а также снизить цены на продовольствие, что благоприятно скажется на демографии.
- Если честно, то от гипотетического выравнивания южноитальянского экономического развития со среднеитальянским даже мурашки по коже бегать начинают. Если уж разрозненные итальянские коммуны были производственными центрами и экономическими гигантами, то единое государство с таким территориальным охватом…. Перспективы, несомненно, благостные, хотя пахать для достижения таких целей придется много.
- Здесь я не бежал впереди паровоза, так как отпуск крепостных в итальянских коммунах произошел как раз на рубеже XIII-XIV веков. Исключением стали лишь наиболее отсталые в экономическом плане государства и коммуны Италии, где более укоренившийся феодальный строй помешал провести крестьянскую реформу.
- Персонаж АИшный.
- Вообще, в условиях АИ и Данте Алигьери, и детали его творчества будут сильно другими. В первую очередь это касается «Божественной комедии», где им делался крупный обзор различных персоналий той эпохи, и они, в зависимости от оценки Данте, показывались или как грешники, или как праведники. Карл Анжуйский, к примеру, у него находится в чистилище, и в целом персонаж скорее положительный, чем отрицательный, что в условиях АИ просто невозможно, ибо для романцев анжуйцы -это воинство Сатаны. А вот Гвидо да Монтефельтро, показанный в реальной «Комедии» как грешник, в АИшном творении наоборот может попасть или в чистилище, или сразу в рай как праведный защитник Романьи.