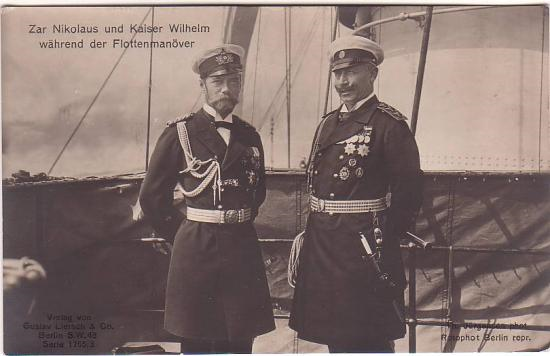Кировская Весна. 1936 год. Часть 3

2 октября 1936 года. Испания. Мадрид. Кольцов
Вчера ночью в комнату вбежал с перекошенным лицом юный Жорж Сориа, корреспондент «Юманите». Он неплотно задернул штору, патруль выстрелил на луч света, и пуля пролетела в двух сантиметрах от Жоржиной головы. Вслед за тем в лифте поднялся наверх к нам стрелявший патруль, начался долгий ругательный разговор с взаимной проверкой документов — патруль у нас, мы у патруля. Не договорились ни до чего, но помирились и долго хлопали друг друга по плечу.
Во время бомбардировки самое удобное — это, задернув все шторы и потушив свет в салоне, выскользнуть и лечь на балконе, только не шевелиться, иначе патрули застрелят, скажут, что подавал сигналы зеркальцем или еще чем-нибудь. Сегодня с правого края балкона видны вспышки и пламя с юго-запада — там аэродром Хетафе и рабочий квартал Карабанчель.
Под нами, внизу, кинематограф «Капитоль», принадлежавший «Парамаунт», самый большой в Мадриде. В его фойе устроено убежище. Стулья повалены, инструменты джаза разбросаны, около пятисот человек сидят и полулежат в сонном, угрюмом молчании. Все больше старики и женщины с полуодетыми детьми вокруг себя. Серые, затекшие, усталые лица, как у пассажиров, что заждались поезда на узловой станции.
Медленно светает, тревога кончилась. Едем в Карабанчель — старый квартал мадридской бедноты. Узкие улички, одноэтажные дома, убогие лавчонки. Здесь живут строительные рабочие — каменщики, бетонщики, штукатуры, маляры. Это их руками выстроены дворцы банков и отелей.
Сейчас взрослых рабочих осталось мало — ушли на фронт. Женщины и дети остались в Карабанчеле. Они стоят в черных потертых платьях и разглядывают огромную, еще дымящуюся воронку. В такой воронке могут свободно лечь три коня со всадниками. Это воронка от стокилограммовой бомбы. Сильные эти бомбы. Никогда таких не изготовляли в Испании. И не скоро научатся изготовлять. Бомбы германского производства, заводов «Рейнметалл» и Круппа. Они за один раз и взрывают и зажигают то, что взорвали. Вот только этой бедной бомбе не повезло. Она упала на пустырь, ничего не разрушила, никого не убила. И пролетарские мамаши радостно шумят: какое счастье!
Мамаши узнали, что здесь расхаживает русский. Сейчас же обступили, сейчас же сообщили, что Люсия Ортега, вдова, уже получила продовольствие от советских женщин.
Хозяйки признали очень правильным, что именно Люсия первой получила провизию. Во-первых, она вдова, во-вторых, многовато для вдовы детей — семеро и, в-третьих, многовато среди детей девочек — шестеро.
Мы пошли к Люсии, и она сама выбежала нам навстречу. Совсем еще молодая женщина, очень бодрая. Между прочим, еще неизвестно, вдова ли. Муж ее, Педро Ортега, шесть недель назад пропал без вести у Мериды.
Люсия представила мне своих детей и была явно польщена, что я записал их имена в книжку. Девочек зовут: Кларита, Кончита, Пепита, Инкарна, Росита и Карменсита. Мальчика зовут Хуанито, полностью — Хуан Буэнавентура Адольфо Ортега Гарсиа, а по-нашему — просто Ваня. Он еще очень мал и не знает, как обращаться с таким нехитрым инструментом, как нос. Шесть старших сестер помогают ему пальцами и подолами юбчонок.
Из ветхого шкафа Люсия торжественно вынимает целый ассортимент. Сливочное масло в пергаментной бумаге, кулек сахару, две плитки шоколаду, банки со сгущенным молоком, мясными и рыбными консервами и баклажанной икрой, пакеты печенья «Пушкин». Все это совершенно не тронуто и уже третий день служит экспонатом для соседок. Сейчас хозяйка гостеприимным образом открывает баклажанную икру завода имени Ворошилова, надламывает шоколад. Масло она не решается трогать — масла в Испании вообще почти не едят, разве что иностранные туристы или очень богатые люди.
— Вот, — говорит Люсия, без всякого желания обобщать или пропагандировать, — из вашей страны нам шлют шоколад и масло, а из Германии и Италии — бомбы.
Пепита и Росита, наученные мною, тычут печенье в сливочное масло и шумно его слизывают, а Хуанито воткнулся носом в баклажанную икру.
Я говорил в кортесах с Прието. После этого в «Эль сосиалиста», органе Прието, одна заметка, без подписи, была выделена жирным шрифтом на первой странице:
«Пять тысяч людей, полных решимости разбить врага! Пять тысяч! Имеет ли Мадрид эти пять тысяч? Все наши рабочие-читатели воскликнут: конечно да! Но мы все-таки повторяем: нам нужны пять тысяч, конечно, лучше восемь, но хотя бы пять тысяч, только пять тысяч молодцов. Пять тысяч, но дисциплинированных и выдержанных до конца. Пять тысяч таких солдат сейчас важнее, чем двадцать пять тысяч неорганизованных, хотя и преданных товарищей. Мы ждем превращения милисианос в подлинных солдат народной армии. Это сократит борьбу и приведет нас к быстрой победе». [6]
15 октября 1936 года. Испания. Мадрид. Ларго Кабальеро
Премьер-министр Испании Кабальеро и министр финансов Негрин, после обсуждения ситуации с Розенгольцем, 15 октября 1936 года передали Тухачевскому официальную просьбу к Советскому Союзу принять на хранение часть золотого запаса Банка Испании примерно 500 тонн золота (другая часть была вывезена и размещена в банках Франции). Этот шаг, помимо того что он обеспечивал закупки вооружений, еще и обезопасил его от угрозы захвата его националистами.
16 октября Ларго Кабальеро объявил о создании регулярной Народной армии; для контроля армии со стороны государства в ней был введён институт комиссаров («правительственных делегатов»). Ряд неудачно проявивших себя в первые недели войны командующих были заменены; так, командовавший центральным фронтом генерал Рикельме уступил своё место полковнику Асенсио Торрадо. Был предпринят ряд мер по восстановлению госаппарата, наведению порядка в тылу. Главной же победой Ларго Кабальеро было достижение с Тухачевским договоренности о широкомасштабной помощи СССР и о ее условиях; как результат, в республику вскоре начала поступать советская военная помощь, а обучать республиканские войска и помогать их офицерам стали советские военные специалисты.
16 октября 1936 года. Испания. Центральный фронт. Кольцов
Асенсио снял две тысячи человек из своих частей на Гвадарраме, он присоединяет к ним четыре тысячи каталонцев и хочет ударить на Талаверу. Но операция эта откладывается со дня на день. По словам Асенсио, он совершенно лишен средств управления и связи, работа штаба сводится к тому, что три офицера носятся взад и вперед по шоссе, собирают информацию и развозят приказы, которых начальники колонн не признают и не выполняют. Линия соприкосновения с противником проходит в десяти километрах от Талаверы. Дальше окопались марокканцы и иностранный легион. А мы — окопались или нет – спрашивает Кольцов (он теперь снова корреспондент)? Асенсио усмехается, он говорит, что для этого у частей нет ни сил, ни инструментов, ни терпения. Он докладывал военному министру о необходимости окопаться кругом Мадрида, но сеньор Ларго Кабальеро считает, что окопы чужды складу ума испанского солдата. От огня противника испанец в крайнем случае укроется за деревом. Зарываться в землю ему не по душе. Нужно будет по меньшей мере год, чтобы приучить его к этому, — за это время три раза кончится война. [6]
18 октябрь 1936 года. Игрек.
Воспоминания Михаиа Поликарповича Ботина «В Севастополь поезд пришел ночью. С вокзала нас доставили в порт, где заканчивалась погрузка и подготовка к отплытию морского транспорта под советским флагом. На судне деловито хозяйничала команда испанских моряков, чему мы были немало удивлены. По мере того как мы врастали в новую обстановку, дело постепенно прояснялось. В то время для введения фашистской агентуры в заблуждение относительно истинной принадлежности морских транспортов, направлявшихся к берегам республиканской Испании, была необходима соответствующая маскировка. Во время плавания менялись наименование и флаг судна, изменялся его внешний вид путем перекраски труб, изменения контура за счет установки макетов и других приспособлений. Об этом мы узнали не сразу, а только в пути. Теперь же мы были поглощены иными впечатлениями.
Огромный транспорт вместил в своих многоэтажных трюмах и отсеках грузы, доставленные несколькими десятками железнодорожных эшелонов. В нижнем находились танки с запасными частями, на следующем этаже разместились артиллерийские орудия, снаряды, авиационные бомбы, остальные трюмы были загружены самолетами в разобранном виде, авиационными моторами, стрелковым оружием (пулеметами, винтовками, пистолетами) и боеприпасами. Самый верхний этаж заполнялся продовольствием, медикаментами и другими предметами материального обеспечения.
Портальные краны-гиганты то и дело поднимали огромные ящики и подавали их на борт. Удивительно четко и слаженно работали портовые грузчики и вся система управления погрузкой. Слышались короткие команды-сигналы: «Вира помалу!», «Майна!». Работы шли к концу. Подступы к району погрузки надежно охранялись бдительными часовыми. Это тоже было необходимой мерой. Зачем показывать любопытным то, чего им не следует знать?
Подойдя к борту, мы, запрокинув головы, смотрели вверх, где в несколько этажей поднимались палубные надстройки. Все было ново и впечатляюще. Многие из нас, сухопутчиков, впервые увидели большой океанский корабль и были поражены его размерами и грузоподъемностью.
— Товарищи, прошу подняться на судно, — прозвучал негромкий голос подошедшего к нам человека в кожаном пальто.
В кают-компании мы с интересом рассматривали его. Фамилии своей он не назвал. Держался спокойно, уверенно и непринужденно. Немолодой, среднего роста, с усталыми, но внимательными глазами, говорил он негромко, но слова его заставляли волноваться. Каждая фраза была отточена и звучала убедительно и ясно. Во всем его облике чувствовался незаурядный ум, хладнокровие, выдержка. Мы ждали от него каких-то особых напутствий, а он говорил просто, доверительно:
— Товарищи, вы знаете, куда и зачем едете. Я имею поручение Центрального Комитета нашей партии и Советского правительства проводить вас в дальний путь, пожелать успеха в предстоящих делах. В этот путь вы отправляетесь не по приказу, а по своей доброй воле. Мы глубоко уверены, что вы с честью и достоинством будете представлять нашу Родину, советский народ за рубежом и, несомненно, выполните интернациональный долг помощи трудящимся Испании в их героической борьбе против фашизма.
Наша страна одна из немногих, которая решила оказать помощь республиканской Испании. У нас имеется единственный путь доставки добровольцев и военных грузов. Это морской путь. Он не безопасен — мы говорим вам об этом, дорогие товарищи, не скрывая суровой правды. Вы слышали о фактах разбоя подводных лодок и кораблей так называемой неизвестной принадлежности. Наши суда не должны стать добычей для врагов. Нами будут приняты соответствующие меры по обеспечению безопасности вашего ответственного рейса. Но никто не может дать полной гарантии. Все может случиться. Вот почему я обращаюсь к тем, кто, может быть, теперь передумал отправиться в Испанию. Считаю необходимым разъяснить, что эта поездка далеко не туристическая. В Испании идет самая настоящая современная война, гибнут люди. У вас есть еще время подумать, а следовательно, есть и возможность покинуть этот корабль. Сейчас мы сделаем пятнадцатиминутный перерыв. Прошу все взвесить, оценить и принять окончательное решение.
Расходимся покурить, с улыбкой поглядываем друг на друга: неужели кто-то пойдет за чемоданом?..
Время перерыва кончилось. Перекличка. Все на месте!
И только после этого на строгом, сосредоточенном лице человека, который вел с нами последний напутственный разговор, появляется добрая ласковая улыбка, и мы вновь слышим его голос:
— Спасибо, товарищи, мне остается теперь пожелать вам счастливого пути, спокойной морской дороги и благополучного возвращения на Родину. — Он смотрит на часы, делает прощальный поклон и выходит из кают-компании.
Старшим нашей команды на время пути назначается Яков Егорович Извеков.
Проходит несколько минут. Заработали мощные судовые двигатели, за кормой вскипает вода, и мы медленно отплываем от берега. Оставшиеся на пирсе люди машут нам руками.
Тяжело нагруженный морской транспорт, постепенно увеличивая скорость, покидает Севастополь, выходит в открытое море и берет курс в далекую Испанию. Мы еще долго стоим у борта, смотрим на теряющиеся в синей дымке родные берега….
Старший нашей команды обходит каюты, доводит до всех инструкцию о порядке действий на случай захвата судна фашистами. А в случае чего наш груз должен пойти ко дну — об этом позаботятся соответствующие люди. Мы надеваем спасательные пояса и вместе с командой садимся в спасательные шлюпки. Паники не должно быть никакой. Действовать четко, решительно, в зависимости от обстановки. При захвате фашистами в плен каждому надо помнить, что среди нас нет ни одного советского подданного.
…Шли вторые сутки плавания. Идем осторожно, избегая по возможности оживленных морских путей. Прошедшей ночью наш корабль остановился, мы это почувствовали по заглохшему шуму двигателей. Выйдя на палубу, увидели, как преображается судно: маляры перекрашивали трубы, палубные надстройки. Под утро маскировочные работы были закончены, якорь поднят, дизеля заработали вновь, наш путь продолжался.
…. Уже позади осталось Черное море. Через Босфор наше судно было проведено турецким лоцманом. С любопытством рассматриваем заморскую землю. Теперь мы увидели рядом берега Турции, ее своеобразный колорит. Вот он, Стамбул, со своими знаменитыми минаретами, шумной набережной, многоцветием красок.
В Средиземное море вошли в напряженном ожидании возможных непредвиденных событий. Море штормит. Огромные волны перекладывают наше судно с борта на борт. От качки страдаем не только мы, но и бывалые моряки. Это заметно по их бледным и усталым лицам.
Когда шторм утихает, команда добровольцев собирается в кают-компании, и мы делимся впечатлениями о нашем морском путешествии, стараемся определить, где находимся, какое расстояние остается до берегов Испании.
Чем спокойнее море, тем опаснее обстановка, тем вероятнее встреча с врагом. А фашисты уже не так далеко: нужно обойти берега Италии.
…. Прошли опасный район — Тунисский пролив, в котором было наиболее вероятно пиратское нападение фашистов на транспорт. В последнюю ночь где-то на траверзе Балеарских островов, занятых мятежниками, наше судно окружили неизвестные военные корабли. В зловещей тишине быстроходные эскадренные миноносцы обошли вокруг транспорта и стали по обоим его бортам, следуя параллельным курсом. Напряжение нарастало с каждой секундой. Мы собрались на палубе в ожидании самого худшего, что могло произойти. Так прошло несколько минут, которые показались нам вечностью. Но вот с одного из ближайших кораблей раздался в рупор громкий возглас: «Вива република Эспаньола! Вива Советико Русиа!»
На нашем судне радостное оживление. Выясняется, что эсминцы республиканского военно-морского флота Испании вышли нам навстречу и перехватили в самом опасном районе Средиземного моря. Они сопровождали транспорт до конечного пункта назначения. Оставалось еще полсуток пути. Настроение у всех приподнятое, мы чувствуем себя под надежной защитой военных кораблей. Слева по борту виднеется берег Африки, четко вырисовываются очертания Алжира….
…На палубу вышел капитан. Он приветливо улыбается нам. Собираемся вокруг него.
— Как себя чувствуете, друзья? — переводит нам Пако.
— Сейчас отлично, а ночью было скучно, думали, что попали в ловушку к мятежникам, — ответил за всех Николай Герасимов.
— Вы знаете, мне тоже вначале стало не по себе, когда увидел военные корабли. Правда, мне сообщили, что нас должны встречать свои эсминцы. Но где произойдет встреча, было неизвестно. Я подал условный сигнал и, пока ждал ответа, испытал чувство тревоги, — сказал Рамон. — А сейчас, друзья, давайте на прощание пообедаем по нашим морским традициям.
Рамон был весел, шутил, благодарил за теплые слова в адрес испанской команды.
— Ребята, что бы нам подарить на память капитану?
Не помню, кто первым высказал это предложение, но поддержали его все. Решили преподнести массивную курительную трубку с длинным мундштуком и головой Мефистофеля. Рамон — заправский курильщик. Пусть вспоминает нас…
Капитан был доволен подарком и сказал, что будет беречь дорогой подарок как добрую память о «компаньеро Советико Русиа».
Наш рейс заканчивается: судно входит в порт Картахену.» [4]
20 октября 1936 года. Испания. Мадрид. Кольцов
Линия огня сейчас формально находится в тридцати трех километрах от столицы. Но, спускаясь по лестнице военного министерства, Кольцов слышит торопливую дробь пулеметов и особый звук зенитных орудий — будто рвут, раздирают огромные куски полотна. Самолеты противника пришли с ранним визитом. Они бросают бомбы и летучки к населению: «Мадрид окружен, сопротивление бесполезно, содействуйте сдаче города! Иначе национальная авиация сотрет вас с лица земли».
Это «национальная авиация» Франко… Ей противостоит горсточка правительственных самолетов, простреленных, поцарапанных, четырежды ремонтированных. Она носится с сектора на сектор, но, конечно, повсюду поспеть не может. Когда появляется республиканский самолет, его облепляют сразу пять, шесть, восемь германских истребителей и жалят огнем пулеметов сверху, снизу, с боков, под всеми углами атаки.
Кольцов едет на толедскую дорогу. Заканчиваются несколько линий окопов и траншей. В долинах медлительно пасутся стада овец. В двадцати километрах от города — редкие раскаты правительственных батарей. Они обстреливают занятую фашистами Ильескас. Огонь сегодня более централизован, но редок, вял. Противник сдержанно отвечает.
Еще несколько километров — тут жарче, шоссе обстреливается шрапнелью. Пришлось оставить машину в кустах у откоса дороги.
Бойцы уже научились понемногу окапываться, они устраивают себе маленькие ямки. Они, бойцы, вообще стали меняться. Исчезло легкомысленное бравирование и бряцание оружием. Винтовки перестали украшать шелковыми бантиками, зато начали их чистить. Яркие красно-черные автомобили, побывав под самолетами, скромно перекрасились в цвет хаки. По мере обострения борьбы все меньше видно крикливых финтифлюшек, умилявших невзыскательных беллетристов и обращавших войну в драматический спектакль. Еще немного времени — и на полях встанет другая, нового качества, перевоспитанная, пронизанная мужеством вооруженная сила.
Пока солдаты лежат все-таки слишком скученно. Им хочется держаться поближе друг к другу. Нет еще самостоятельности, уверенности в себе отдельного бойца, отделенного от товарищей тридцатью, сорока метрами. Скученность резко увеличивает потери от огня.
Огонь! Простое, древнее слово. В мирном быту оно говорит о тепле, о горячей пище, о высушенной обуви путника. Почти столько же, сколько существует человечество, огонь служил ему для защиты от холода, для сытости, для радости, для сохранения и поднятия жизненных сил. Недаром люди поклонялись огню. Из всех видов язычества огнепоклонничество было высшим выражением органических инстинктов человека.
На войне огнем для приличия называют смерть. Три фашистских государства сыплют через посредство кадровой армии боевым огнем, десятками миллионов смертоносных единиц, на молодые, вчера возникшие полки народной милиции. Бойцы лежат в ямках перед Ильескас, они лежат вот уже двое суток без движения под огнем противника, под огнем то средним по силе, то большим, то ураганным, то сдержанным, как сегодня. Они уже обтерпелись, они привыкают к огню.
Огонь! Кадровый офицер германской армии, высокий, худой, угловатый, в очках, сидит рядом с Кольцовым на траве, отмечает в книжечке взрывы гранат, подсчитывает возможную мощность огня. Несколько шрапнелей визжат очень низко, над головой; бойцы невольно втягивают головы в плечи. Он ободряюще посмеивается:
— В мировую войну было покрепче!
Этот офицер сейчас не числится в списках рейхсвера, он числится в других списках. За боевые заслуги перед родиной Германская империя наградила его тремя годами мучений и пыток в концентрационном лагере. Как могло быть иначе, ведь офицера зовут Людвиг Ренн.
Едва оправившись от трех лет фашистского застенка, немецкий антифашист спешит на изрытые снарядами поля Кастилии, под огонь германских бомбовозов и истребителей. Он пишет и здесь руководство для солдат, полевую тактическую азбуку. Как могло быть иначе, ведь писатель этот — коммунист, его зовут Людвиг Ренн.
Огонь, огонь! Жгучий ливень смерти льют фашистские убийцы трех стран над мирной испанской землей. Они рвутся к столице. Народ все крепче сжимает в руках свое убогое оружие, все смелее кидается в битву. Но кольцо огня сжимается туже. Чем же станет Мадрид? Испанским Верденом? Или разделит трагическую и славную судьбу Парижской коммуны? [6]
24 октября 1936 года. Испания. Федерико.
Я был назначен капитаном 1-й роты батальона «Удар», организованного Объединенным союзом социалистической молодежи. Мы стояли в Дон Бенито, в провинции Бадахос, и находились в распоряжении полковника, командира 1-й Подвижной колонны. Прошло уже несколько дней после того, как я созвал роту в казарме и сообщил об организации Народной армии и связанных с этим решениях правительства. Меня сильно изумляло, что ни один дружинник не заявил об уходе. В моей роте были, в общем, хорошие ребята, члены ОССМ, молодые анархисты, беспартийные рабочие, крестьяне, служащие, студенты. Но была среди них одна очень недисциплинированная группа членов «Хувентуд Либертария», с которой мне пришлось уже несколько раз довольно резко столкнуться, — особенно с их вожаком, севильским каменщиком Антонио Хименесом. Они получали, между прочим, анархистские газеты, которые агитировали против организации Народной армии, за «революционную милицию».
Я решил позвать Хименеса. Хотя никто и не заявлял об уходе из батальона, мне было все-таки необходимо узнать, что анархисты думают и что они собираются делать.
Хименес явился в штаб. Он вошел с некоторой робостью, хотя это был парень, не лезший за словом в карман и смелый в бою.
— Ты знаешь уже, что с милицией кончено?..
— Да, ты говорил нам об этом.
— Хорошо. Что же вы думаете делать?
— Ничего нового. Надо будет подтянуться немного.
— Значит, остаетесь?
Антонио избегал прямого ответа. Он сомневался и в самом себе и в своих товарищах. Он знал, что ответить «да» означало принять обязательство быть хорошим солдатом Народной армии.
— Мы остаемся, капитан! Ты, ведь, знаешь, что мы ненавидим фашизм.
— Ты понимаешь, что значит остаться? Сумеете взять себя в руки?
— Думаю, что да. Но скажи: если я выпью немного лишнего — что тогда будет?
— Это большой проступок — особенно, когда выполняешь военное задание.
— Ночью, в охране, можно будет петь и курить?
— Иногда — да, иногда — нет, — как вам прикажут.
— А сможем мы вести анархистскую пропаганду?
— Только своей дисциплиной и героизмом. Ты видел, чтоб я вел пропаганду за Объединенный союз?
— Нет, не видал. Ты со всеми обращаешься одинаково. Однако сейчас у нас больше членов ОССМ, чем раньше…
Это было верно. В моей роте количество членов ОССМ необычайно выросло. Когда мы в июле 1936 года организовали батальон, они составляли только 40 процентов роты. К моменту же превращения нас в бойцов Народной армии их было уже 85 процентов. Наши товарищи были лучшими бойцами — самыми храбрыми, самыми дисциплинированными, самыми усердными в военной учебе.
— А как ты думаешь, — спросил я, — почему стало больше членов ОССМ?
Несколько секунд Антонио Хименес колебался. Затем он сказал:
— Вы лучшие, это верно. Ваши лозунги ясны. Тебя мы все любим.
Он опять помолчал. Потом спросил:
— А подружку я могу завести в деревне?
— Пожалуйста. Но только одну. И чтобы это не отразилось на твоих военных обязанностях.
— А что будет, если я увижу курицу и состряпаю из нее обед для ребят?
— За это можно и расстрелять.
— Тогда возьми, по крайней мере, другого повара… Он чорт знает, что пихает нам в желудки…
— Это мелочь. Да мы, ведь, и не такие неженки…
— А если я не выполню какого-нибудь распоряжения сержанта Панчо? Он очень груб — не умеет обращаться с людьми.
— Ты должен всегда подчиняться старшим. Если у тебя есть жалоба на кого-нибудь, скажи мне. Я, ведь, тоже подчиняюсь…
Антонио стал чесать себе затылок.
— Трудновато, чорт возьми, довольно-таки трудновато…
— Ты прав, — заметил я. — Это трудно. Надо быть для этого хорошим революционером. Лучше, пожалуй, чтобы вы ушли.
— Ну, нет! — энергично и с дрожью в голосе произнес он. — Никогда! Я революционер — ты знаешь это. Я всегда и повсюду — первый. Клянусь тебе, не пройдет и месяца, как я буду сержантом!
Мы обнялись. Не стыжусь признаться, у обоих были слезы на глазах. Мы плакали и смеялись…
Прежде чем выйти из маленькой комнаты, Антонио, вытирая волосатой рукой слезы, сказал мне:
— Не верь тому, что тебе будут говорить «Лягушка» и Хасинто. Они злобны и двуличны. Гони их из батальона.
И действительно, «Лягушка» и Хасинто вскоре были выгнаны из роты [2]
29 октября 1936 года. Испания. Мадрид. Кольцов
Пять часов утра. Штабы и командиры работают. Нервность, напряжение, суета. Листер сидит в единственной комнате домика в Вальдеморо, один, за крохотным столиком, на котором едва поместилась карта. Комната набита людьми, все галдят, какие-то споры с артиллерией, все обращаются к Листеру, он слушает каждого и медленно, после паузы, с усилием отвечает. Он задерган и переутомлен.
Встали ли все части в исходное положение? Этого никто толком не может установить.
Шесть часов. Начали стрелять батареи.
Шесть часов тридцать минут. Появилась танковая колонна Армана. Советские ребята тоже не спали, держатся тоже немного взвинченно, но бодро, с улыбкой. Пехота приветствует танкистов бурными возгласами. Командиры башен шутливым жестом руки приглашают пехотинцев следовать за ними.
Авиация почему-то запаздывает. Только в шесть сорок слышны кое-какие взрывы в направлении Торрехона, Сесеньи, Ильескас. Танки бросаются вперед.
Они мчатся по полю и подкатывают к деревне. Несколько растерянный огонь мятежников утихает. Не встречая сопротивления, колонна переходит окопы и движется по главной улице Сесеньи. Непонятно, почему ей не препятствуют. Ведь здесь стоят части фашистской колонны полковника Монастерио.
Маленькая площадь, обставленная старыми каменными домами. Стоят солдаты, марокканцы, просто жители, стоят довольно спокойно.
Фашистский офицер поднятием руки останавливает передний танк. Командир молча стоит, по пояс возвышаясь над башней. Обе стороны разглядывают друг друга.
Фашист любезно спрашивает:
— Итальяно?
Командир еще несколько секунд задерживает ответ, затем исчезает в башне, захлопнув за собой крышку, и дает огонь.
В эту минуту деревня превращается в пекло.
Танки катятся на толпу, рвут ее в клочья орудийным и пулеметным огнем, топчут и давят гусеницами. Слышны дикие вопли марокканцев, их пули звонко стучатся в броню танка.
Колонна катится вперед, через площадь, по продолжению улицы. Здесь застрял и не может развернуться марокканский эскадрон кавалерии.
Кони становятся на дыбы, сбрасывая умирающих всадников и падая сами друг на друга. В несколько десятков секунд образуется сплошная груда лошадиных и человеческих тел, красных фесок, белых кисейных арабских шарфов. Танки не могут стрелять друг другу в затылок, командирская машина выпускает в это месиво несколько снарядов и пулеметных очередей, затем вскарабкивается на живую кучу и идет, давя, колыхаясь на ухабах; за ней остальные машины.
Три орудия стоят брошенными в панике на улице. Танки идут по ним, с треском и лязгом, крушат, ломают их.
Что дальше?! Дальше кончается улица. Кончилась деревня. Танки проскочили ее в какие-нибудь двадцать пять минут.
Но живая сила здесь еще явно уцелела и боеспособна. Чтобы покончить с деревней, надо повторить все сначала. Сделав круг, колонна снова, прежним путем, входит в Сесенью. Своей пехоты еще не видать, может быть, она подоспеет сейчас.
Теперь ясна вся трудность и рискованность боя в этих узеньких уличках.
Здесь не Восточная Европа, где танк может легко развернуться, повалив забор огорода, помяв огурцы на грядках или даже пройдя насквозь через деревянный дом. Испанский городок, вот такой, как эта Сесенья, — это тесный лабиринт узких, горбатых переулков и тупиков; каждый дом — старая каменная крепость со степами в полметра-метр толщиной.
Во второй раз схватка идет медленнее, сложнее, жарче. Трескотня и грохот неимоверные. Очень опасно застрять в этой каменной мышеловке.
А вот еще фашисты сообразили втащить оставшиеся пушки на крыши домов, оттуда они бьют по башням танков. Это чуть не погубило первые машины. Они проскочили только из-за плохой пристрелки, из-за волнения фашистов.
Следующие танки стреляют наискось, под карниз домов. Крыши проваливаются — и пушки с ними.
Новая беда — мавры раздобыли где-то бутылки с бензином и, поджигая, бросают их, обмотанные ватой, на машины. Это может воспламенить резиновые подкладки, это угрожает охватить пожаром весь танк.
Бой разбивается теперь на отдельные очаги. В разных местах отдельные танки крушат кругом себя, расстреливают огневые точки, тушат у себя пожары, выходя из машин под огонь.
А вот эти ребята взбираются на столбы, перерезают провода телефонов! Одного пуля настигла на столбе, — он медленно, мягко сполз вниз, тяжело переваливаясь, придерживая рану на груди, полумертвым свалился обратно в башню.
Колонна опять выбралась на шоссе, за деревню. Люди немного устали, частью обгорели. Есть раненые. Но возбуждение, задор еще увеличились. Где пехота? Что с ней случилось? Не подоспела до сих пор! Ну и черт с ней! У всех настроение, раз уже забрались в тыл к фашистам, погромить все, что можно.
Отдохнув немного, танки идут на Эскивиас. Солнце палит совсем по-летнему. Сидеть внутри машины стало душно.
Уже десятый час. Издалека появляется облако пыли, в бинокль видны грузовики. Это моторизованная пехота Монастерио мчится на выручку в Сесенью. Ах, дьяволы! Танки подбираются к закруглению дороги и оттуда дают огонь веером. Грузовики остановились, часть солдат изготовилась к защите, остальные разбегаются.
Танки безостановочно подходят к пехоте, здесь ее около полутора батальонов. Жестоким огнем почти все скошено. В упоении танкисты давят грузовики, с хрустом растаптывают полевую пушку, вторую…
— Вот обида: почему мы не можем брать пленных?
— А кто тебе мешает? Привяжи его на веревочке к буксирному крюку — он будет за тобой топать.
— Или поставить их в середине, окружить танками и погнать под гусеничным конвоем!
Колонна ворвалась в Эскивиас. Здесь ее встречает наскоро выкопанный противотанковый ров. Одна машина не успела замедлить, сначала завалилась, потом было выкарабкалась, но соскочила гусеница.
Капитан оставил два танка в помощь застрявшему, а с остальными пошел прочищать деревню. Здесь оказалось около двух рот «регулярес», они тоже разбежались.
Несколько мертвых тел валялось на дороге; танкам было очень трудно объезжать их, но они все-таки сделали зигзаг по узкой улице. Легко и приятно раздавить целый эскадрон живых врагов, омерзительно переехать мертвое, бесчувственное тело. Водитель сказал: «Я вдруг почувствовал себя шофером-душегубом».
Это уже десять или двенадцать километров в тылу y фашистов! Думали сделать небольшую атаку в сопровождении пехоты, а получился прорыв дальнего действия. Солнце стоит в зените, бойцы, отойдя от Эскивиас, вышли из машин и закусили всухомятку колбасой, сыром, вином.
Ждали застрявших. Дождались, поехали дальше, на Борокс.
Проскочили деревню, не встретив сопротивления, в пятнадцать минут. Стали загибать круг обратно к толедской дороге. В это время из-за гребня длинного холма выползло восемь фашистских танков.
Это были легкие итальянские машины типа «ансальдо». Республиканские машины остановились и начали стрелять — часто, резко, прямой наводкой.
Три «ансальдо» сразу подпрыгнули, как пустые угольные вагонетки на заводском дворе. Они перестали шевелиться. Остальные, пятясь назад, быстро ушли за холм. Очень хотелось погнаться за этими зелеными черепашками. Но капитан посигналил возвращаться на сборный пункт.
Назад возвращались долго, по новой дороге. Люди сидели потухшие, истомленные, детская сонливость сгибала онемевший позвоночник. Ни одного своего пехотинца не встретилось и на обратном пути.
В чем же дело?
У дверей домика в Вальдеморо стоял, дожидаясь танков, Листер. Он рассказал Кольцову, мрачно кривя углом рта: части сначала пошли, и хорошо, но, пройдя полтора километра, пристали, присели, начали пачками и кучками застревать среди холмов, в складках местности.
Когда танки совсем потерялись из виду, пехота в главном направлении остановилась, затем опять пошла вперед, вплотную подошла к Сесенье, была там встречена довольно слабым огнем и вернулась назад.
В это же время колонна Мены разбила мятежников у Торрехона и заняла деревню.
Танкистов поздравляли, перевязывали и кормили, они тихонько спрашивали, почему же отстала пехота. Кольцов угрюмо отвечал: «Еще не научилась взаимодействовать». [6]
29 октября 1936 года. Испания. Мадрид. Воронов
Все с нетерпением ждали 29 октября. На этот день было назначено контрнаступление республиканских войск под Мадридом. Задача — разгромить части мятежных войск Франко в районе Эскивиас — Сесенья — Борокс и остатки их отбросить далеко от города. Все надежды возлагались на массированное применение танков и авиации. Артиллерии отводилась скромная роль, она будет использоваться лишь на второстепенном направлении.
В Испании были верны модной в то время теории, которая считала, что артиллерия отживает свой век, а главными родами войск становятся танковые и авиационные части.
Накануне наступления в войска прибыл пламенный, но далеко не безупречный в военном отношении приказ высшего командования республиканской армии, напоминавший прокламацию:
«Слушайте, товарищи! Двадцать девятого, на рассвете, появится наша славная авиация и обрушит на подлые головы врага много бомб, она будет расстреливать его из пулеметов. Затем выйдете вы, наши смелые танкисты, и в наиболее чувствительном для противника месте прорвете его линии. А уж затем, не теряя ни минуты, броситесь вы, наша дорогая пехота. Вы атакуете части противника, уже деморализованные, вы будете бить их и преследовать до полного уничтожения…»
Текст этого приказа ночью в канун наступления был объявлен по радио. То ли по наивности, то ли по злому умыслу тайна наступления была разглашена на весь мир. Командование во всеуслышание объявило врагу: «Иду на вы!»
Вместе с остальными частями готовились к наступлению и мы на второстепенном направлении. Артиллеристы успели отработать тесное взаимодействие с пехотой, разведали и осторожно, чтобы не выдать свои намерения врагу, пристреляли цели.
В шесть часов утра 29 октября на нашем вспомогательном направлении началась артиллерийская подготовка, а за нею последовала атака республиканской пехоты. Активно действовали два импровизированных бронепоезда.
Бой развивался медленно, но верно. Если пехота задерживалась, ее выручали пушки. К исходу дня части продвинулись вперед до 4-6 километров, но не смогли развить успеха — для этого у нас, на второстепенном направлении, не хватало сил. Фашисты не раз переходили в контратаки, но все они были отбиты. Республиканские войска закрепились на новых позициях.
Весь день я с завистью посматривал налево, где наносился главный удар. Оттуда непрерывно доносились рокот моторов и грохот взрывов: республиканская авиация усиленно бомбила вражеские позиции…
Вечером меня вызвали в Мадрид для доклада. У всех в штабе были хмурые лица. Наступление на главном направлении постигла неудача. Резко критиковались недостатки: плохое управление войсками, отсутствие четкого взаимодействия авиации, танков и пехоты на поле боя, слабое сочетание огня и маневра. Авиация и танки совершили рейд в глубину обороны противника, но их действия своевременно не поддержала пехота. В результате, потеряв несколько танков, войска отошли в исходное положение.
Когда все это было обсуждено, командование, наконец, поинтересовалось ходом действий на второстепенном направлении.
С каким удивлением все слушали мой краткий доклад, разглядывая карту! Наши скромные успехи неожиданно оказались крупнейшим достижением дня. [9]
30 октября 1936 года. Испания. Мадрид. Хемингуэй.
— .. Но я хотела бы тебе рассказать все, что ты должен знать, чтобы твоя гордость не страдала, если я в самом деле стану твоей женой. Ни разу, никому я не уступила. Я сопротивлялась изо всех сил, и справиться со мной могли только вдвоем. Один садился мне на голову и держал меня. Я говорю это в утешение твоей гордости.
— Ты — моя гордость, Мария. Я ничего не хочу знать.
— Нет, я говорю о той гордости, которую муж должен испытывать за жену. И вот еще что. Мой отец был мэр нашей деревни и почтенный человек. Моя мать была почтенная женщина и добрая католичка, и ее расстреляли вместе с моим отцом из-за политических убеждений моего отца, который был республиканцем. Их расстреляли при мне, и мой отец крикнул: «Viva la Republica!» /Да здравствует Республика/— когда они поставили его к стене деревенской бойни.
Моя мать, которую тоже поставили к стенке, сказала: «Да здравствует мой муж, мэр этой деревни!» — а я надеялась, что меня тоже расстреляют, и хотела сказать: «Viva la Republica y vivan mis padres!» /Да здравствует Республика и да здравствуют мои родители/— но меня не расстреляли, а стали делать со мной нехорошее.
А теперь я хочу рассказать тебе еще об одном, потому что это и нас с тобой касается. После расстрела у matadero они взяли всех нас — родственников расстрелянных, которые все видели, но остались живы, — и повели вверх по крутому склону на главную площадь селения. Почти все плакали, но были и такие, у которых от того, что им пришлось увидеть, высохли слезы и отнялся язык. Я тоже не могла плакать. Я ничего не замечала кругом, потому что перед глазами у меня все время стояли мой отец и моя мать, такие, как они были перед расстрелом, и слова моей матери: «Да здравствует мой муж, мэр этой деревни!» — звенели у меня в голове, точно крик, который никогда не утихнет. Потому что моя мать не была республиканкой, она не сказала: «Viva la Republica», — она сказала «Viva» только моему отцу, который лежал у ее ног, уткнувшись лицом в землю.
Но то, что она сказала, она сказала очень громко, почти выкрикнула. И тут они выстрелили в нее, и она упала, и я хотела вырваться и побежать к ней, но не могла, потому что мы все были связаны. Расстреливали их guardia civiles, и они еще держали строй, собираясь расстрелять и остальных, но тут фалангисты погнали нас на площадь, а guardia civiles остались на месте и, опершись на свои винтовки, глядели на тела, лежавшие у стены. Все мы, девушки и женщины, были связаны рука с рукой, и нас длинной вереницей погнали по улицам вверх на площадь и заставили остановиться перед парикмахерской, которая помещалась на площади против ратуши.
Тут два фалангиста оглядели нас, и один сказал: «Вот это дочка мэра», — а другой сказал: «С нее и начнем».
Они перерезали веревку, которой я была привязана к своим соседкам, и один из тех двух сказал: «Свяжите остальных опять вместе», — а потом они подхватили меня под руки, втащили в парикмахерскую, силой усадили в парикмахерское кресло, и держали, чтоб я не могла вскочить.
Я увидела в зеркале свое лицо, и лица тех, которые держали меня, и еще троих сзади, но ни одно из этих лиц не было мне знакомо. В зеркале я видела и себя и их, но они видели только меня. И это было, как будто сидишь в кресле зубного врача, и кругом тебя много зубных врачей, и все они сумасшедшие. Себя я едва могла узнать, так горе изменило мое лицо, но я смотрела на себя и поняла, что это я. Но горе мое было так велико, что я не чувствовала ни страха, ничего другого, только горе.
В то время я носила косы, и вот я увидела в зеркале, как первый фалангист взял меня за одну косу и дернул ее так, что я почувствовала боль, несмотря на мое горе, и потом отхватил ее бритвой у самых корней. И я увидела себя в зеркале с одной косой, а на месте другой торчал вихор. Потом он отрезал и другую косу, только не дергая, а бритва задела мне ухо, и я увидела кровь. Вот попробуй пальцами, чувствуешь шрам?
— Да. Может быть, лучше не говорить об этом?
— Нет. Ничего. Я не будут говорить о самом плохом. Так вот, он отрезал мне бритвой обе косы у самых корней, и все кругом смеялись, а я даже не чувствовала боли от пореза на ухе, и потом он стал передо мной — а другие двое держали меня — и ударил меня косами по лицу и сказал: «Так у нас постригают в красные монахини. Теперь будешь знать, как объединяться с братьями-пролетариями. Невеста красного Христа!»
И он еще и еще раз ударил меня по лицу косами, моими же косами, а потом засунул их мне в рот вместо кляпа и туго обвязал вокруг шеи, затянув сзади узлом, а те двое, что держали меня, все время смеялись.
И все, кто смотрел на это, смеялись тоже. И когда я увидела в зеркале, что они смеются, я заплакала в первый раз за все время, потому что после расстрела моих родителей все во мне оледенело и у меня не стало слез.
Потом тот, который заткнул мне рот, стал стричь меня машинкой сначала от лба к затылку, потом макушку, потом за ушами и всю голову кругом, а те двое держали меня, так что я все видела в зеркале, но я не верила своим глазам и плакала и плакала, но не могла отвести глаза от страшного лица с раскрытым ртом, заткнутым отрезанными косами, и головы, которую совсем оголили.
А покончив со своим делом, он взял склянку с йодом с полки парикмахера (парикмахера они тоже убили — за то, что он был членом профсоюза, и он лежал на дороге, и меня приподняли над ним, когда тащили с улицы) и, смочив йодом стеклянную пробку, он смазал мне ухо там, где был порез, и эта легкая боль дошла до меня сквозь все мое горе и весь мой ужас. Потом он зашел спереди и йодом написал мне на лбу три буквы СДШ /Союз детей шлюхи — непристойно-искаженное фашистами название молодежной организации «Союз детей народа»/,и выводил он их медленно и старательно, как художник. Я все это видела в зеркале, но больше уже не плакала, потому что сердце во мне оледенело от мысли об отце и о матери, и все, что делали со мной, уже казалось мне пустяком.
Кончив писать, фалангист отступил на шаг назад, чтобы полюбоваться своей работой, а потом поставил склянку с йодом на место и опять взял в руки машинку для стрижки: «Следующая!» Тогда меня потащили из парикмахерской, крепко ухватив с двух сторон под руки, и на пороге я споткнулась о парикмахера, который все еще лежал там кверху лицом, и лицо у него было серое, и тут мы чуть не столкнулись с Консепсион Гарсиа, моей лучшей подругой, которую двое других тащили с улицы. Она сначала не узнала меня,но потом узнала и закричала. Ее крик слышался все время, пока меня тащили через площадь, и в подъезд ратуши, и вверх по лестнице, в кабинет моего отца, где меня бросили на диван. Там-то и сделали со мной нехорошее.
— Зайчонок мой, — сказал Эрнест Хемингуэй и прижал ее к себе так крепко и так нежно, как только мог. Но он ненавидел так, как только может ненавидеть человек. — Не надо больше говорить об этом. Не надо больше ничего рассказывать мне, потому что я задыхаюсь от ненависти.
Она лежала в его объятиях холодная и неподвижная и немного спустя сказала:
— Да. Я больше никогда не буду говорить об этом. Но это плохие люди, я хотела бы и сама убить хоть нескольких из них, если б можно было. Но я сказала это тебе, только чтобы твоя гордость не страдала, если я буду твоей женой. Чтобы ты понял все.
— Хорошо, что ты мне рассказала, — ответил он. — Потому что завтра, если повезет, мы многих убьем. [11]
Использованная литература.
[1] Данилов Сергей Юльевич. Гражданская Война в Испании (1936-1939)
[2] Федерико, Жос. Записки испанского юноши
[3] Антон Прокофьевич Яремчук 2-й. Русские добровольцы в Испании 1936-1939
[4] Розин Александр. Советские моряки в гражданской войне в Испании в 1936-1939гг.
[5] Майский Иван Михайлович. Испанские тетради.
[6] Кольцов Михаил Ефимович. Испанский дневник.
[7] В.В. Малай. Испанский «вектор» европейской политики (июль-август 1936 г.): рождение политики «невмешательства».
[8] Рыбалкин Юрий Евгеньевич ОПЕРАЦИЯ «X» Советская военная помощь республиканской Испании (1936-1939).
[9] Воронов Николай Николаевич. На службе военной.
[10] Мерецков Кирилл Афанасьевич. На службе народу.
[11] Эрнест Хемингуэй. По ком звонит колокол.
[12] История центра подготовки военных переводчиков