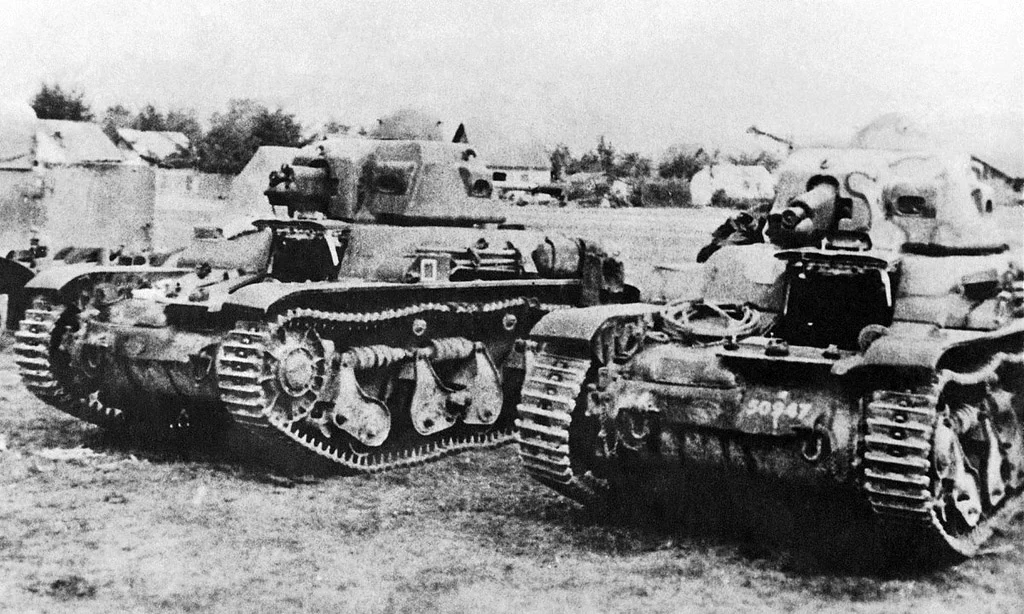Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Продолжаю публиковать свой альт-исторический цикл Pax Italica, и сегодня речь пойдет об окончании правления последнего короля Романьи из Флорентийского дома. Рассказано будет о преодолении Великого Западного раскола, восстановлении Рима, вопроса о правопреемнике Чезаре III Витторио, и многом другом.
Содержание
Преодоление раскола
Великий Западный раскол, начавшийся в 1378 году, в правление Чезаре III стал достигать своего пика. В Авиньоне обосновался антипапа Климент VII, признаваемый Францией и ее союзниками, в Риме сидел Бонифаций XI, являющийся марионеткой Романьи. При этом многие государства желали скорейшего преодоления раскола, и потому давили на обоих понтификов, требуя отречения одного из них. Бонифаций, будучи слабее Климента, оказался под наиболее сильным давлением – фактически все его сторонники, за исключением Романьи, требовали его отречения еще с 1380-х годов, но он, пользуясь протекцией Флорентийского дома, расслабился, и просто правил «своей» частью церкви из Рима. В чем-то его политика глухого сопротивления желающим свергнуть его в пользу Авиньона оправдалась. Смерть в 1394 году Роберта Женевского, антипапы Климента VII, упрочнила позиции Бонифация, а успехи крестового похода в Африку сделали его еще более популярным. Впрочем, это частично нивелировалось фигурой нового антипапы, Педро Мартинеса де Луны, ставшего Бенедиктом XIII. Он был достаточно популярным в церковной среде, к тому же его активно поддерживали и испанские государства, и французы. В результате этого два параллельных Святых Престола в Риме и Авиньоне лишь укрепляли свои позиции, что грозило превращением католической церкви из единой в две разделенные на постоянной основе.
В 1404 году умер Бонифаций XI, и римская курия предложила авиньонскому папе Бенедикту XIII отречься от Святого Престола, чтобы затем и авиньонцы, и римляне провели общие выборы нового папы, и преодолели схизму. Из Авиньона ответили отказом, и потому в Риме единогласным голосованием всей курии был избран новый понтифик – Иннокентий VII, в миру Козимо Джентиле Мильорати. Выбор оказался далеко не самым удачным. С одной стороны новый папа хоть и не был марионеткой Флорентийского дома, но хотя бы проявлял симпатии к нему, считая, что взаимовыгодный союз Рима и Флоренции способен на великие свершения. Он целиком поддерживал Африканскую войну, выделил средства на помощь романцам, и даже благословил создание Африканского патриархата, присвоив этот почетный титул архиепископу Карфагена. Однако при этом Иннокентий повел крайне неудачную кадровую политику, назначив одним из кардиналов своего племянника Людовико Мильорати, бывшего кондотьером и авантюристом. Тот попытался устроить массовое убийство политических врагов своей семьи, тем самым спровоцировав беспорядки в Риме, которые романцам пришлось подавлять силой. Это обострило отношения между папой и Чезаре III, но, к счастью, уже в 1406 году Иннокентий умер, по слухам – отравленный по приказу короля Романьи.
Впрочем, его замена для Чезаре III оказалась еще более неудобной. Новым папой стал Григорий XII, в миру – Анджело Коррер, бывший до того латинским патриархом Константинополя. Это означало, что он имел хорошие связи с венецианцами, и не очень жаловал Романью и ее монархов. Поддержка Африканской войны со стороны папства уменьшилась, люди понтифика пытались устраивать беспорядки в Риме, провоцируя толпу свергнуть романцев, и восстановить прямой папский контроль над городом. В конце концов, это привело к тому, что романский король отказался от поддержки Ватикана, и стал сторонником созыва церковного собора для преодоления раскола. Провели его в 1409 году во Флоренции. Оба понтифика – и Григорий XII, и Бенедикт XIII – отказались участвовать в нем и признавать его решения. Однако решения Флорентийского собора собирался признать Чезаре III Витторио, и это было главным. Согласно решениям собора, оба понтифика были объявлены схизматиками и преданы анафеме, а вместо этого был избран новый папа – Александр V, в миру – Пьетро Филарго, францисканец из Кандии. Он хоть и не был марионеткой Романьи, но питал к ней большую симпатию, и целиком поддерживал курс, взятый Чезаре III в Северной Африке. Чтобы укрепить позиции новоизбранного понтифика, романский король применил силу, и изгнал Григория XII из Рима вместе с его сторонниками, благодаря чему Александр смог утвердиться в Ватикане. Его признали большинство значимых государств Европы, но Французы и некоторые испанские государства сохранили поддержку Бенедикта XIII, а бежавший Григорий нашел приют в Милане. В результате этого вместо преодоления раскола Флорентийский собор лишь создал еще один Святой Престол.
Уже в 1310 году Александр V умер, и его смерть оплакивал в том числе его покровитель, король Чезаре III Витторио ди Фиренце. На выборах его преемника развернулась масштабная коррупция, и сильнее всех оказался кардинал Бальтазар Косса, еще один кондотьер, авантюрист и пират. Он заключил союз с банком Медичи, и на его деньги подкупил остальную курию, став папой Иоанном XXIII. Слухи о нем ходили весьма разнообразные – что он похотлив, имеет целый гарем содержанок, участвует в оргиях и замечен в содомии, жесток и ненадежен. Впрочем, главным оказалось то, что он попал в полную зависимость от короля Романьи, который держал его в Ватикане фактически под стражей, и был вынужден передать все финансовые вопросы церкви в руки банка Медичи в общем, и Джованни ди Биччи де Медичи в частности, что значительно обогатило последнего. Лишь по их воле он оставался понтификом, так как уже к 1412 году Косса настолько дискредитировал себя, что даже поддерживавшие его кардиналы стали искать себе новых покровителей.
Тем временем раскол успел изрядно утомить уже решительно всех, и в 1414 году в Констанце собрался Вселенский собор католической церкви под эгидой короля Германии Синизмунда I Люксембурга. Поддержку ему выразили и другие монархи, включая королей Франции и Романьи. Он рассматривал многие вопросы, в том числе должен был осудить или оправдать Яна Гуса, основателя движения гуситов, но для Италии важнее всего было именно преодоление раскола. В результате этого собравшиеся представители церкви в 1415 году вновь потребовали отречения от всех трех старых пап, чтобы избрать нового. Иоанн XXIII отрекся сразу же под давлением романцев, несколько позднее об отречении объявил и Григорий XII. Бенедикт XIII отказался от отречения, и был повторно предан анафеме, из-за чего был вынужден бежать из Авиньона в Арагон – единственное государство, которое еще его поддерживало. Впрочем, вскоре и арагонцы отказались от поддержки антипапы, и потому тот вместе со своими немногочисленными сторонниками отправился в изгнание в замок Пеньискола близ Валенсии, где их никто толком не признавал в качестве Святого Престола. Эти арагонские изгнанники умудрятся даже выбрать еще двух пап – Климента VIII и Бенедикта XIV, но никакой реальной властью они уже не обладали, и католическая церковь им не подчинялась [1]. Святой Престол теперь окончательно вернулся в Рим, и лишь римский понтифик мог быть законным главой всего западного христианства.
В качестве нового папы в 1417 году был избран Оддоне Колонна, ставший Мартином V. Его признал весь христианский мир, включая короля Романьи, который был знаком с Оддоне лично. Они не питали друг к другу большой любви, но и ненависти между ними не было. Кроме того, и у Мартина V, и у Чезаре III Витторио был один большой общий интерес – возрождение величия Рима, его восстановление после разрухи, и укрепление сильно пошатнувшегося авторитета католической церкви. В результате этого с 1417 по 1421 годы Святой Престол и корона Романьи действовали в унисон, выказывая поддержку друг другу во всех крупных начинаниях. Вместе они не признали все результаты Констанцского собора, занимались восстановлением Ватикана и Рима, рассматривали перспективы крещения народов Северной Африки. Дабы не отбросить тень на авторитет нового понтифика, Чезаре III даже воздержался от давления на Святой Престол, и пошел на определенные уступки по части назначения церковных чинов в Романье, и увеличил выплаты за «аренду» Лацио и Рима, подчеркивая, что он не манипулирует понтификом, и тот является целиком самостоятельным игроком. В ответ Мартин усилил поддержку войны в Африке, и деньги церкви во многом помогли сохранить высокие темпы наступления в последнюю кампанию войны, Оранскую. Казалось, что впервые за долгое время наступил именно тот формат взаимовыгодных отношений, который планировался еще при создании королевства Романьи, и наступила эпоха процветания в Италии. Раскол был преодолен, христиане теснили мусульман в Африке, на полуострове к югу от реки По царили мир и спокойствие. Мало кто сомневался, что наступают благословенные времена…
Возрождение Рима
У Чезаре III Витторио ди Фиренце было два дела всей его жизни – военное и мирное. Военным стала африканская конкиста, успешная, но потребовавшая немалого напряжения сил и привлечения многих талантливых людей. Мирным же делом стало восстановление Рима, которое даже в самые напряженные годы войны отвлекало немало ресурсов Романьи. Само восстановление стало броским жестом Чезаре III, который таким образом заявил всему миру, что собирается воцариться в Вечном Городе, и сделать его столицей государства. Этим он собирался и повысить свой престиж, и избавиться от потенциально враждебных территорий на Апеннинском полуострове, и повысить свою популярность среди самих римлян. Уже начало работ позволило выполнить последний пункт – ведь масштабные стройки давали рабочие места большому количеству людей, и римляне, практически не имевшие в городе работы, теперь могли обеспечить себя и улучшить свою жизнь, пускай и не самым легким способом. Впрочем, часть населения города, а именно заядлых нищих, не желающих работать и живущих лишь на щедрые подаяния Святого Престола, Чезаре III также привлек к работам – но уже с применением силы. Спрос на рабочую силу с 1396 года, когда начались работы, постоянно рос, а население в Рим прибывало со всех концов Италии. К 1421 году оно уже перемахнет за 50 тысяч человек, и почти все они будут обеспечены работой на долгие десятилетия. Однако помимо рабочей силы для возрождения Рима требовались и большие капиталы, которые Романья черпала из трех источников – королевской казны, пожертвований со стороны церкви, также стремившейся вернуть былой блеск городу, и займов у флорентийских банкиров. Существовал и четвертый источник – в 1406 году по указу короля в Рим переселили ряд знатных семейств, и в обмен на преференции они вложили свои средства в постройку дворцов, загородных вилл, и многого другого. Руководили восстановлением города два человека – с 1396 по 1409 королевский доверенный архитектор, Томмасо да Нарни, а с 1409 года – сын Джованни ди Биччи де Медичи, 20-летний Козимо, продемонстрировавший хорошие навыки управления и художественный вкус.
Самой первой задачей по восстановление Рима стали работы, связанные с инфраструктурой, его поддерживающей. Требовалось решить ряд проблем, связанных не только с будущими масштабными стройками, но и с рядом серьезных проблем, мешавших нормальной жизни в городе. Параллельно с этим требовалось начинать реализацию и строительных проектов, которые зачастую требовали много времени на реализацию ввиду масштабности проводимых работ. В целом же основными проблемами, которые требовалось решить при восстановлении города, были:
- Слабая система логистики. Поставки продовольствия, строительных материалов, товаров и прочего в город были затруднены из-за примитивной системы городского снабжения, заметно уступавшей флорентийской. Реорганизацию этой системы король поручил римской синьории, в которой сидели его люди, и в целом новую систему попросту скопировали с той, что уже была отработана во Флоренции. Правда для того, чтобы она заработала в полную силу, предстояло решить еще три проблемы.
- Упадок дорожной инфраструктуры. Все дороги и мосты, которые использовались римлянами и жителями близлежащих поселений, были построены еще при Римской империи, и с тех пор их никто особо не чинил. И если дороги всегда оставались дорогами, и в целом удовлетворяли потребности города, хоть и требовали расчистки и ремонта, то с мостами дело обстояло куда хуже – вместо постоянных каменных во многих местах использовались понтонные мосты или переправы на плотах, в том числе в самом Риме, где был всего один мост, Понте Ротто (Эмилия), да и тот находился в аварийном состоянии. По решению Чезаре III Витторио, помимо восстановления дорог и Понте Ротто, в Риме были построены еще 6 каменных мостов, которые значительно улучшили сообщение между правым и левым берегом Тибра. Эти работы были завершены к 1410 году.
- Плохая связь с внешним миром. Для Рима, расположенного в глубине выдающегося в Средиземное море Апеннинского полуострова, лучшим сообщением с внешним миром всегда было море. При Римской империи город имел большой порт – Остию, расположенный на Тибре, и имевший самое короткое сообщение с городом из возможных, но к XV веку местная география сильно изменилась. Побережье превратилось в болото, Остия превратилась в ничтожный городок с несколькими пристанями, часто разоряемыми берберскими корсарами. Весь товарооборот Рима с внешним миром шел через Чивитавеккью, расположенную гораздо севернее, а потому менее удобную. Решено было вновь перенести торговый порт на юг, в устье Тибра, но так как Остия уже не могла удовлетворить потребности все более возрастающих габаритов торговых судов, то решено было строить новый порт на правом берегу реки, с каменным молом, глубокой защищенной гаванью и всей необходимой инфраструктурой. Так как помимо масштабной стройки требовалось еще и осушить близлежащие болота, то официально новый порт, названный Фьюмичино («Маленькая речка»), начал работать лишь в 1444 году, уже после смерти Чезаре III Витторио.
- Дефицит свежей воды. Водоснабжение города к началу XV века происходило за счет прямого сбора воды из Тибра, при этом отходы сливались туда же, и в городе часто вспыхивали эпидемии болезней, вызванных грязной водой – тифа и дизентерии. Старая античная система поставок воды с помощью акведуков была ликвидирована еще во времена господства Византии, остатки акведуков понемногу разбирались на строительные материалы для простого люда. С 1403 года часть этих акведуков начала восстанавливаться, а также были построены новые системы водоснабжения основных районов города. До древнеримских масштабов поставки воды с горных источников так и не дошли, но в целом город оказался обеспечен свежей водой, а также позволяло иметь постоянно обновляемые запасы воды на случай осады города.
- Регулярные наводнения. Почти ежегодно весной Тибр выходил из своих берегов, и затапливал Рим. В основном это были небольшие наводнения, но раз в несколько десятилетий случались катастрофические паводки, когда вода поднималась на 16 метров выше нормы, и более. Во времена Римской империи существовала система регулирования уровня воды с помощью плотин и прудов, но к XV веку она целиком пришла в негодность. По решению Чезаре III вся эта система начала восстанавливаться, что заняло около 60 лет – последняя плотина была возведена в 1453 году. Кроме того, в самом Риме уже в 1398-1405 годах были возведены высокие каменные набережные, которые значительно уменьшали масштабы наводнений, удерживая воду ниже уровня жилых кварталов.
- Ежегодные эпидемии малярии. Во времена Римской империи весь Лацио пронизывала сеть каналов, которые осушали этот регион, делая его более пригодным для жизни. Вместе с падением империи эта система пришла в упадок, в результате чего все побережье Апеннинского полуострова от Лигурии до Кампаньи превратилось в малярийные болота, а местное население постоянно страдало от болезней, разносимых комарами. В Риме это приводило к высокой смертности, и каждое лето многие римляне попросту покидали город, чтобы снизить риск заболеваний; в те же годы, когда это не получалось сделать, малярией могла переболеть большая часть знати и папской курии [2]. Романцы, уже имея опыт осушения Мареммы, приступили к аналогичным осушительным работам и в Лацио, уделив главное внимание окрестностям Рима. Работы были начаты еще при Джованни VI Витторио, но из-за масштабности и продолжительности самого процесса осушения заняли несколько поколений. Последняя вспышка малярии в Риме была зафиксирована королевскими чиновниками в 1448 году, полное осушение болот в Лацио будет завершено лишь в середине XVI века [3].
- Общая антисанитария. Условия жизни, некачественная вода, отсутствие работающей канализации – все это приводило к высокой даже по меркам времени антисанитарии, и увеличивало частоту заболеваний. Особенно тяжелыми были празднования церковных юбилеев, когда в Рим разом прибывало по нескольку сотен тысяч паломников, после которых местное население сокращалось в следствии вспышек эпидемий. По настоянию короля Романьи в Риме была восстановлена и расширена античная канализация, а по указу Козимо де Медичи в городе были отстроены несколько общественных туалетов и бань. Кроме того, было увеличено количество госпиталей, и за счет римской синьории была организованна централизованная уборка улиц.
- Безработица. Пока Романья реализовывала в Риме масштабные инфраструктурные проекты – это было хорошо, но рано или поздно они бы завершились, и тогда перед римлянами вновь появилась бы проблема безработицы. Чезаре III и его викарий, Джованни ди Биччи де Медичи, заранее озаботились решением этой проблемы. В 1400-1421 годах в Риме были заложены основы сразу нескольких мануфактур – текстильных, железоделательных, стеклодувных, и т.д. При этом на время активного восстановления города для них вводились ограничения по производству и количеству рабочих, которые были сняты в 1431 году, и производство «впитало» в себя всех тех рабочих, которые освобождались со строек в Риме и его окрестностях. Основными хозяевами мануфактур стали самые богатые и влиятельные семейства Романьи – Медичи, Альбицци, Пацци, Риккарди, Кавальканти. Железоделательное производство целиком сосредоточилось в руках короны и семейства Барди, которое несколько укрепило свои позиции после стремительного пике в середине XIV века.
- Слабая защищенность города. Старые городские стены Рима к началу XV века пришли в негодность, и уже не представляли серьезного препятствия на пути у деятельного противника. За ними укреплениями могли служить лишь старые римские здания с толстыми каменными стенами, да замок Святого Ангела, принадлежавший Святому Престолу. Для Романьи это было совершенно недопустимое положение, из-за чего еще при Джованни VI началось постепенное усиление защиты города. В первую очередь были укреплены стены, а вслед за этим началось строительство палаццо – укрепленных дворцов для знати, королевской четы и государственных учреждений. Кроме того, был дополнительно усилен Колизей, а Палатинский и Капитолийский холмы за счет возведения каменных стен, укрепляющих их склоны, превратились в большие крепости, которые было довольно удобно удерживать в случае вторжения вражеских армий в пределы города.
- Хаос и анархия на улицах. Несмотря на то, что баронские войны на улицах города были прекращены, там все еще царили беспорядок и хаос. Ночью жителям города было опасно выходить из дому, да и днем случалась поножовщина. Введение романских судов и законодательства лишь немногим улучшили ситуацию, и окончательное наведение порядка явно требовало силовых решений. Для этого была значительно укреплена городская стража, чьи полномочия и возможности были заметно расширены. По факту это был особый отряд кондотьеров, расквартированный в Колизее, и подчиненный синьории. В некоторых случаях ему оказывала поддержка королевская гвардия. Создание городской стражи нового типа произошло в 1411 году, в 1418 году синьория отчиталась о значительном уменьшении беспорядков на улицах. К середине XV столетия Рим станет одним из самых спокойных и безопасных городов Италии, не считая пьяных драк в тавернах и дуэлей среди представителей знати.
Помимо всего этого, королю, его семье и государственным учреждениям требовалась инфраструктура для работы – т.е., правительственные здания и дворцы, коих в Риме ввиду его основательной разрухи было чрезвычайно мало. В результате этого, помимо палаццо знати, пришлось развернуть строительство королевских и государственных дворцов. Кроме того, по договоренностям с Папой Римским пришлось вкладываться в еще ряд крупных проектов, в результате чего количество зданий, возводимых при Чезаре III и его наследнике, оказалось достаточно внушительным:
- Палаццо дель Капитолино (Капитолийский дворец). Изначально строился как временная резиденция королевской фамилии в Риме, на месте античного Табулария. Основное здание было завершено уже к 1403 году, но дворец постоянно расширялся, пока не занял все свободное пространство на территории Капитолийского холма. Новые пристройки предназначались для Королевского Совета. Позднее дворец будет передан римской синьории в качестве дара, и станет главным зданием городской администрации.
- Палаццо дель Палатино (Палатинский дворец). Планировался как главная королевская резиденция в Риме, представлял собой целый дворцовый комплекс на вершине укрепленного Палатинского холма, с конюшнями, казармами, садом и небольшой базиликой Святой Констанции Сицилийской. При Чезаре III существовал лишь в проекте, так как предварительно требовалось укрепить склоны Палатинского холма, провести опись и составить рисунки оставшихся руин древнеримских сооружений, и т.д. При Козимо де Медичи проект был переработан, и фактическое строительство оказалось отложено еще на какое-то время. В результате этого де-факто Палатинский комплекс, заложенный в 1405 году, длительное время представлял из себя лишь каменные укрепления на склонах холма и временные постройки на его вершине, включая казармы гвардии, базилику и небольшой летний домик для королевского семейства. Окончательно строительство дворца началось лишь в 1459 году, несколько раз он перестраивался еще до завершения всего плана строительства. Официальная церемония открытия прошла лишь в 1560 году.
- Палаццо дель Квиринале (Квиринальский дворец). Изначально планировался как укрепленные казармы для королевской гвардии, но из-за проволочек со строительством Палатинского дворца в 1418 было решено, что Квиринальский будет построен быстрее. На деле проект оказался масштабным и сложным, королевская фамилия заселилась во дворец одновременно с переносом столицы королевства в Рим в 1444 году.
- Палаццо дель Латерано (Латеранский дворец). Папский дворец, который восстанавливался вместе с городом после пожара и частичного разрушения в былые годы. Работы велись на деньги Святого Престола, но под контролем королевских чиновников и романскими рабочими. Ремонт примыкающего Латеранского собора Романья обеспечила из своей казны как дар понтифику.
- Палаццо делла Сапиенца (Дворец Мудрости). Главное здание Римского университета, вновь открытого благодаря содействию Чезаре III Витторио и папы Мартина V. Представлял собой крупный дворцовый комплекс, включающий несколько зданий. Несмотря на всю масштабность, строился быстро, и в 1421 году был официально открыт при участии папы и короля Романьи. Для больного Чезаре III открытие дворца стало последним предсмертным делом.
- Палаццо Банкарио (Банковский дворец). Строился флорентийскими банковскими домами в качестве объединенного римского представительства, наглядной иллюстрации могущества романской банковской системы. Достроен в 1424 году, в 1480 году оказался целиком занят банком Медичи, и переименован в Палаццо Банкарио де Медичи.
Дворцовое строительство оказалось настолько масштабным, что на его завершение потребовалась уйма средств и времени, и лишь к началу XVI века удастся завершить весь комплекс работ, начатый еще в конце XIV столетия при последнем короле из Флорентийского дома.
Несмотря на Африканскую войну, Чезаре III довольно много времени посвящал возрождению Рима, и стремился всячески подчеркнуть свою связь с Вечным Городом. Он первым из королей Романьи начал именовать себя на итальянском языке Re di Roma – королем Рима, а не только римлян, а титул наследника престола при полном согласии папы Мартина V был переименован в Principe di Roma, Принца Рима. Это, а также очевидное возрождения величия Рима как города и столицы католического мира, сильно подняло авторитет Романьи и Флорентийского дома. Сами римляне теперь воспринимали романских монархов как своих настоящих властителей, и почти не оказывали сопротивления нововведениям. Собственно, самих коренных римлян в городе практически не осталось – учитывая взрывной рост его населения, к 1421 году в нем преобладали переселенцы из других регионов Италии, лояльных романцам. Огромные вложения в восстановление города принесли и другой результат – став владыками возрожденного Рима, короли Романьи поневоле стали восприниматься как естественные правители всей Италии среди простого люда и мелких правителей. Это было бы отличным достижением, но с учетом угасания Флорентийского дома и кризиса престолонаследия это приводило к тому, что для многих амбиционых правителей Италии, в первую очередь – герцогов Миланских, корона Романьи становилась слишком желанной целью, что предвещало в грядущие годы много войн и несчастий, которые предстояло пережить преемникам Чезаре III Витторио ди Фиренце.
Вопрос престолонаследия
У Чезаре III Витторио ди Фиренце не было наследников мужского пола. От его законной супруги родились трое детей, и из них выжили лишь две дочери. Здоровых внебрачных детей мужского пола у короля также не было. Это означало, что следующим монархом Романьи станет его старшая дочь Матильда, и власть в стране перейдет ее супругу, а значит – и другой династии. Выбор этого супруга становился серьезной стратегической задачей для короля, осложненной тем, что Флорентийский дом всегда был немногочисленным, и побочных ветвей у него было чрезвычайно мало, а пригодных для брака женихов – еще меньше. Фактически, таковым был лишь Иоанн, герцог Афинский с 1405 года. Женив его на своей дочери, Чезаре III смог бы сохранить власть в руках Флорентийского дома, т.е. такой брак был целиком в интересах династии – но противоречил интересам государственным: в отличие от своих предшественников, Иоанн IV Афинский выбрал в качестве своего сильного патрона не Романью, а Венецию, надеясь с ее помощью расширить свои владения в Греции за счет земель Византии, дружественной Флоренции. В случае его коронации в качестве короля Романьи венецианцы могли получить преимущество в торговле, и отнять с трудом завоеванное торговое влияние в Средиземноморье у романцев. В результате этого брак не состоялся, вместо этого Иоанн IV женился на Софии Монферратской, которая родила ему единственную дочь Марию. В 1418 году герцог Афин умер от пищевого отравления грибами, и корона перешла к его 3-летней дочери, а после ее замужества – к Константину XI Палеологу, ее супругу и последнему императору ромеев. В результате эта ветвь Флорентийского дома угасла еще раньше основной, главой которой был сам Чезаре III.
Когда стало ясно, что власть в руках своей династии не сохранить, начался поиск женихов за границей. Само собой, что в первую очередь Чезаре Витторио интересовали браки с сильными владетельными домами. В разное время им рассматривались кандидатуры Людовика Анжуйского (будущего герцога Людовика II Анжуйского), Сигизмунда Люксембурга (короля Венгрии, Хорватии и Богемии, будущего императора Священной Римской империи), Альбрехта Габсбурга (будущего короля Германии), но все они были слишком иноземцами – с точки зрения итальянцев и романской элиты, всего лишь варварами. Плюс ко всему, все эти потенциальные женихи, которые сами напрашивались на брак с Матильдой ди Фиренце, были далеко от Романьи, их основные владения находились за Альпами, а Чезаре III прекрасно помнил, к чему привел низкий контроль Священной Римской империи над своими итальянскими владениями – ведь именно его предки воспользовались этим, и основали Романское королевство. Тогда в качестве жениха и будущего короля Романьи стал рассматриваться Джан Мария Висконти, с 1402 года ставший герцогом Милана – второго по могуществу континентального итальянского государства после Романьи. В случае его брака с Матильдой ди Фиренце Милан и Романья могли объединиться, что стало бы большим шагом на пути к поглощению всей Италии римскими королями [4]. Увы, этому браку не суждено было случиться. Переговоры о нем шли тяжело, не в последнюю очередь потому, что Джованни Мария, несмотря на юные годы, был законченным психопатом – жестоким и кровожадным тираном, одним из развлечений которого была травля людей псами. В 1408 году брак почти сложился, но сорвался из-за требований романской стороны. В конце концов, договоренности были достигнуты, и свадьба должна была случится в августе 1412 года – но в мае Джованни Мария был убит.
Параллельно с переговорами с Миланом Чезаре III рассматривал и резервные варианты брака своей дочери с кем-то из представителей романской политической элиты. Таковыми были Орманно Альбицци, Андреа де Пацци и Козимо де Медичи. Первый был сыном Ринальдо дельи Альбицци, успешного полководца, показавшего себя во время Африканской войны, и внуком казненного в 1394 году Орманно дельи Альбицци, королевского викария. Ринальдо был близким другом короля – настолько, что тот даже рассматривал вариант передачи власти ему, но незадолго до рождения Матильды тот женился, и потому рассчитывать Чезаре пришлось на его старшего сына Орманно. Тот был умеренно способным парнем, храбрым и честным, с 14 лет воевал вместе с отцом и своим королем в Африке. Проблема была лишь в том, что он был на 6 лет младше Матильды, и далеко не таким способным, как того хотел Чезаре Витторио. Второй кандидат из романской знати, Андреа де Пацци, также был другом и сверстником короля. Человек честный, благородный и открытый, он был де-факто союзником Медичи, и многими считался идеальной кандидатурой для будущего короля, или хотя бы консорта при молодой королеве Матильде. Видя, какое уважение питает к нему романское общество, Чезаре III Витторио предложил ему заключить брак со своей дочерью, хотя разница в возрасте у них была значительной – 20 лет. Андреа, недолго думая, отказался. Неизвестно, чем конкретно мотивировал он свой отказ на предложение всей жизни. Некоторые утверждали, что он слишком честен и благороден для короны, другие – что он осознавал, что не подходит для такого высокого положения. Третьи же шептали о том, что главу семейства Пацци, далеко не такого честного и благородного, каким он казался, подкупил Джованни ди Биччи де Медичи, дабы увеличить шансы на победу своего сына.
Сыном его, а также третьим кандидатом на руку и сердце Принцессы Рима, а также корону Романьи в придачу, был Козимо де Медичи, сын Джованни ди Биччи, королевского викария. Он был крепким, умным и разносторонне развитым юношей, большим фанатом гуманизма и ценителем античного искусства. Козимо писал стихи, неплохо рисовал, отлично владел риторикой, дипломатией, умел и отпускать остроумные колкости, и идти на компромиссы. В 1407 году Джованни ди Биччи назначил своего сына помощником главного куратора всех римских проектов, Томмасо да Нарни, а когда тот спустя два года умер, без особых затруднений добился его утверждения в качестве нового куратора. Чезаре Витторио знал юношу по своим визитам в Романью, и высоко ценил его таланты. В качестве главы римских проектов Козимо раскрыл себя во всей красе – умелый управленец, талантливый организатор, он был еще и политиком, и дипломатом, благодаря чему отношения с римской знатью и Святым Престолом стали постепенно улучшаться, а скорость проведения работ возросла. И если до 1412 года его кандидатура в качестве будущего короля Романьи рассматривалась королем Чезаре III Витторио лишь из-за талантов Джованни ди Биччи, то после смерти Джованни Марии Висконти и «ревизии» оставшихся женихов Козимо де Медичи выглядел уже как очень серьезный и весомый претендент на руку и сердце Матильды Флорентийской.
В результате этого у Чезаре III Витторио остались лишь два варианта – Орманно дельи Альбицци и Козимо де Медичи, и выбор требовалось делать как можно быстрее, так как невесте было уже 20 лет, и она не отличалась крепким здоровьем. Конечно же, эмоционально король поддерживал первого кандидата, сына своего друга, солдата и лидера, похожего на него нравом. Увы, разум говорил обратное – заполучить в качестве наследника столь талантливого юношу, как Козимо де Медичи, было большой удачей. Кроме того, семейство имело достаточно весомую поддержку в обществе, владело наибольшим капиталом в Европе, и отличалось достаточно строгими нравами и пунктиком касательно образования, гуманизма и навыков управления, что для королей становилось все более и более важными чертами. Был и другой довод – среди займов Чезаре III Витторио доля банка Медичи была самой большой, а брак Матильды с Козимо мог бы позволить значительно уменьшить долги. Тем не менее, король еще колебался, когда в 1414 году из Флоренции пришла весть – Матильда беременна, и вероятным отцом ее ребенка является сын Джованни ди Биччи де Медичи. Когда Чезаре прибыл домой, то оказалось, что тревога была ложной, но вот отношения между его наследницей и Козимо все же имеют место быть. Обычно в таких условиях венценосный родитель начинал метать гром и молнии, но романский король отнесся к произошедшему философски, счел ложную беременность знаком свыше, и начал переговоры о браке с Джованни ди Биччи. В 1415 году Козимо и Матильда сыграли свадьбу, невеста была уже на 4-м месяце беременности, и к концу года родила крепкого и здорового сына, к великому удовлетворению Чезаре III Витторио.
После этого романский король вновь уделил максимум внимания Африке, начав понемногу передавать бразды правления своему зятю. В 1420 году, готовясь к дальнейшей африканской конкисте, Чезаре заболел, и отправился в Романью дабы отдохнуть и восстановить силы. Увы, выздороветь он уже не смог, скончавшись в апреле 1421 года от рака легких. Вместе с ним по мужской линии окончательно угас Флорентийский дом, основанный святой Матильдой Каносской, и кондотьером Джованни Чезаре ди Фиренце, и создавший королевство Романью, которое медленно, но уверенно шло по пути объединения всей Италии под своим началом. Завершалась целая эпоха в истории региона – эпоха крестовых походов, феодальных войн, государственного строительства и активной экспансии на континенте и в бассейне Средиземного моря. Наступала новая пора – пора торгово-экономической экспансии, войн с турками, заморских плаваний и политики «блестящего невмешательства». Начиналось правление династии великолепных Медичи, которым суждено будет объединить Италию, и сделать ее одним из величайших государств Европы Нового Времени.
Примечания
- Весьма забавный пример человеческой гордыни, когда антипапы вместе с несколькими кардиналами продолжали пытаться строить из себя Святой Престол, хотя их все уже игнорировали, и ни один крупный диоцез им не подчинялся.
- Собственно, один из ярких примеров подобного малярийного жесткача – это смерть папы Александра VI, в миру Родриго Борджиа. Из-за буйства иностранных армий в Лацио в 1503 году папа и его курия не смогли покинуть Рим в пиковые месяцы эпидемий малярии, в результате чего после очередной трапезы с лихорадкой слегли и папа, и кардиналы. Кроме того, хронической малярией болели многие другие кардиналы на протяжении практически всей истории Рима.
- Вообще считается, что осушать болота и вырубать леса для борьбы с малярией (малярийными комарами) придумали только в XIX веке испанцы, американцы, англичане и французы, исследовавшие малярию, в том числе в рамках строительства Панамского канала, однако это как раз та история, которая написана этими самыми испанцами, американцами, англичанами и французами. Итальянцы же прекрасно знали, откуда берется малярия, и как с ней бороться, как минимум со Средневековья, а скорее всего – еще с древнеримских времен.
- Еще одна внутренняя развилочка, которую я предпочту пройти мимо – просто потому, что последние представители дома Висконти были отбитыми отморозками, и я плохо себе представляю, как из объединения Италии под их началом могло выйти что-то хорошее. Кроме того, дом Висконти тоже скоро угаснет.