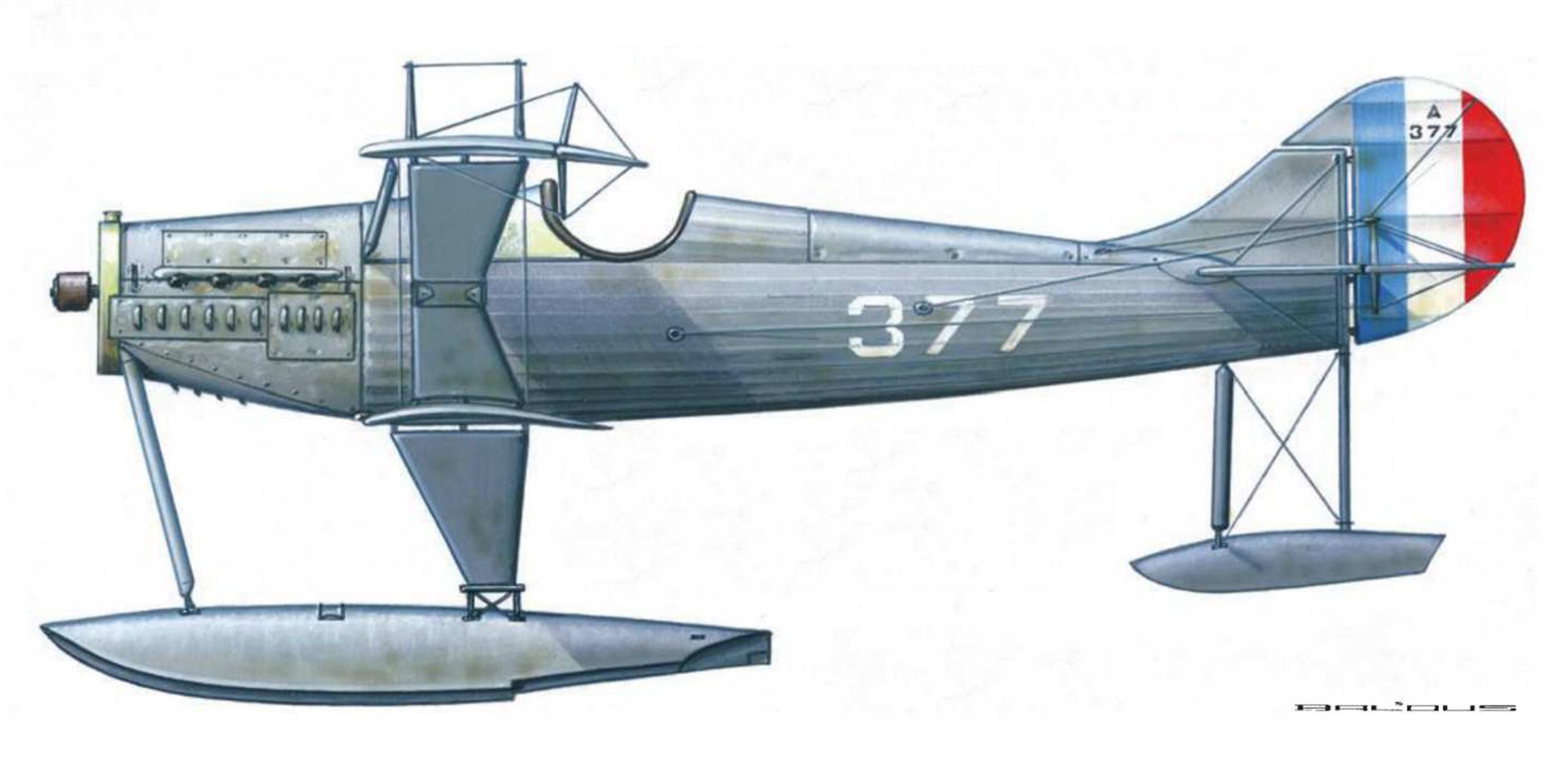Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Продолжаю публиковать материалы по проекту Pax Italica, и сегодня настало время завершить рассказ о правлении Джулио I Чезаре. Речь пойдет о завершении войн с Фридрихом Барбароссой, Третьем Крестовом походе, и многом другом.
Содержание
Вторая Итальянская война Фридриха I Барбароссы
После Египетского похода война для Джулио I Чезаре лишь сбавила обороты. Следующие 5 лет он провел в мелких внутренних конфликтах, приводя государство в порядок, расширяя свои реформы и подавляя феодальную вольницу с крестьянскими бунтами. Флоренцию он посещал чаще, чем раньше, но все равно предпочитал оставаться «в поле», в седле или походном шатре, в гордом одиночестве или вместе с супругой. Это создавало эффект присутствия короля во всех его владениях сразу, и сближало его с простым народом, жителями городских и сельских коммун. Постепенно в Романье воцарились покой и порядок, казна заметно выросла, а в распоряжении короля появилось еще больше конных копейщиков и эквитов. К тому моменту самому Джулио Чезаре исполнилось уже 50 лет, что по меркам времени было вполне солидным возрастом, но глава Флорентийского дома все еще оставался крепким, здоровым и активным человеком, способным дать фору многим молодым. Авторитет и популярность романского монарха позволяли ему претендовать на звание одного из самых влиятельных людей Западной Европы, но во внешней политике это выражалось не так ярко – Джулио Чезаре делал лишь то, что был в интересах короны, избегал откровенных авантюр, и предпочитал синицу в руках, чем журавля в небе, из-за чего некоторые давали низкие оценки его политических и дипломатических навыков, а другие называли его самым скромным королем Европы.
Время решения внутренних проблем подошло к концу в 1173 году, когда император Фридрих I объявил о новом походе в Италию с целью подчинить себе северные города, привести к покорности герцога Романьи, и посадить в Риме «своего» папу. Собственно, первая попытка вернуться в Италию была предпринята еще в 1171 году, когда крупный отряд архиепископа Христиана Майнцского вторгся на территорию городов Ломбардской лиги, но был разбит совместными силами Милана и короля Романьи, и потому никаких серьезных последствий эти действия не возымели. Зато двумя годами позднее через Альпы перешла крупная армия во главе с самим императором, и это было уже куда более серьезной угрозой. Ломбардская лига и Джулио Чезаре обновили договоренности о союзе, и выступили единым фронтом. Однако Фридрих извлек уроки прошлого, и вместо долгой и изнурительной войны с северными коммунами двинулся прямиком на Рим через Романью и Марке. При подходе королевской армии в Ферраре произошел переворот, и власть захватили нобили, которые принесли клятву верности императору, объявив о выходе из состава Романьи. Союзная армия, сосредоточенная в Ломбардии, оказалась в стороне от пути императорской армии, а королевство подверглась вторжению и разорению. Бросив пехоту и ломбардских союзников, Джулио Чезаре со своей конницей бросился на восток, и преградил дорогу германцам, однако в сражении у Форли его малочисленную армию едва не смяли, и, как и когда-то близ Павии, король предпочел отступить и сохранить свои войска, чем продолжать сражаться и понести большие потери.
Победа у Форли заставила императора укрепиться в своей вере в успех, и он двинулся дальше. Что хуже – ломбардцы отказались идти далеко на юг ради борьбы с Фридрихом, и предпочли остаться дома, ограничившись блокированием подкреплений противника, идущих на юг. Впрочем, романцы не сдавались, и начали активно маневрировать, параллельно стягивая свои силы со всей страны. Чтобы перемахнуть через Апеннины, императору пришлось сделать крюк через Абруцци [1] и ждать весны 1174 года, а в тесной долине на западном склоне гор, близ городка Виковаро, ему неожиданно преградили дорогу спешенные романские ланчьери и городская милиция Тосканы. Местность мешала эффективно применить конницу, а итальянцы проявили невиданное упорство, и выдерживали одну атаку за другой. В конце концов, Фридрих остановил атаки, и признал за собой поражение. Потери его были столь велики, что без подкреплений не было никакой надежды продолжить движение на Рим – но ломбардцы блокировали подходы свежих сил. В результате этого успешное наступление завершилось ничем. Остатки имперских войск были вынуждены покинуть Романью и отступить на север, восстановив связь с Германией, и получив свежие подкрепления. При этом в их рядах стала распространяться смута, а у Фридриха заканчивались деньги, и многие отряды наемников ему пришлось распустить. В результате этого он смог вновь собрать силы лишь к началу 1176 года, и общая численность воинства была гораздо меньше, чем ранее. К тому же он лишился главных своих сторонников в Романье – нобилей Феррары свергли местные пополаны при подходе королевского войска, и Джулио I Чезаре провел в их рядах масштабную чистку, после которой гибеллины в городе были практически уничтожены.
Более свежий опыт натолкнул императора на мысль, что идея с захватом Северной Италии перед дальнейшим наступлением на юг не так уж плоха, и потому он двинулся к главному городу региона – Милану. Войска Ломбардской лиги провели мобилизацию, и решили не садиться в осаду, а дать сражение в поле, призвав на помощь Джулио Чезаре. У романского короля было большое желание отказать, но разгром императора был все же важнее любых политических интриг. Две армии столкнулись у Леньяно. Первоначально Фортуна благоволила германским рыцарям и наемникам, ряды ломбардцев были смяты, но «Отряд смерти», защищавший священную городскую хоругвь, встал насмерть, чем расстроил ряды имперцев, а затем последовал мощный удар романских ланчьери, который воинство Фридриха I выдержать уже не смогло. Началось отступление, быстро превратившееся в бегство. Многие германские рыцари попали в плен, став жертвой ломбардской и романской легкой конницы. Всего же количество пленных превысило четыре сотни. Однако эта солидная цифра меркла перед пленением всего одного-единственного германского рыцаря – в горячке боя кустодии и сенатские гвардейцы смогли разбить элитный отряд, охранявший самого императора. Фридрих I, тяжело раненый в бою, был сбит с лошади и взят под стражу лично Джулио I Чезаре ди Фиренце, который объявил правителя Священной Римской империи своим почетным пленником, не забыв пожелать ему лучших дней [2].
На этом итальянские войны Фридриха I Барбароссы завершились. Плененного императора держали во Флоренции, окружив почетом, но жестко ограничив его возможности. Он был вынужден выплатить за себя и своих рыцарей огромный выкуп, чтобы просто вернуть себе свободу – и для этого потребовалось фактически ограбить всю Германию, и даже взять в долг деньги у итальянских банкиров, связанных с Флоренцией, на очень невыгодных условиях, которые пришлось соблюдать его наследникам. Было подписано перемирие на 6 лет, низложен антипапа Пасхалий III, а Александр III признан единственным законным понтификом, а земли, которые контролировались королем Романьи, переходили в его «вечное владение», и лишались имперской юрисдикции. Даже после своего освобождения у Фридриха не было возможности продолжать войну – рыцари отказывались возвращаться в Италию, а на наемников не было средств. Лишь в начале 1180-х годов императору удалось восстановить хотя бы часть своего былого войска, но о войне с Романьей и Папой Римским он уже не помышлял. В 1183 году был подписан Констанцский мирный договор, закрепивший все предыдущие договоренности с Ломбардской лигой, Римом и Флоренцией. Внимание императора переключилось на новую цель – заполучить корону Сицилии, на которую имел претензии его сын и наследник, Генрих, но для начала предстояло принять участие в Третьем крестовом походе, дабы восстановить свою пошатнувшуюся репутацию.
Третий крестовый поход
Еще в те времена, когда ромеи и романцы захватили Дамиетту и Александрию, в Египте начала восходить звезда Салах ад-Дина ибн Айюба. Он, проявив давно уже невиданные среди арабов полководческие и политические таланты, укрепил свою власть в бассейне реки Нил, и уже в 1170 году попытался отбить потерянные города. Ромеи смогли удержать их, но Саладина это не смутило, и он переключился на другие цели – объединить под своей властью раздробленные осколки некогда великой империи Аббасидов. К 1175 году он уже стал султаном Египта и Дамаска, контролировал обширные территории и обладал сильной армией, а к 1183 году взял под свой контроль практически все территории Ближнего Востока, за исключением лишь Багдада да непосредственно Араваии. Мусульмане видели в нем своего защитника от амбиций христиан, и Саладин старался соответствовать этому образу. Собравшись с силами, он с 1177 года начал организовывать набеги на владения Иерусалимского королевства и византийцев, а в 1185 году, пользуясь смутой у ромеев, захватил Александрию. Византийцы, увязнув в конфликте с турками и внутренних проблемах, не могли ответить на это отправкой крупной армии, потому в следующем году пала и Дамиетта. А в 1187 году началась большая война с Иерусалимским королевством, и в битве при Хаттине крестоносцы были разгромлены. Вслед за этим были взяты Акра и Иерусалим, и над владениями христиан в Палестине нависла серьезная угроза.
Первым на проблему обратил внимание Папа Римский Григорий VIII, однако он не успел до своей смерти организовать новый крестовый поход, и делом занялся его наследник, Климент III. К походу, помимо военно-монашеских орденов и ряда европейских феодалов, выступили и значимые монархи – французский король Филипп II Август, английский король Ричард I Львиное Сердце, император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса. Вариант неучастия в походе Джулио I Чезаре не рассматривался всерьез никем среди католиков – слишком многое связывало Ближний Восток и Флорентийский дом. Как и всегда в таких случаях, попытка общей координации действий провалилась, и теоретически могущественная крестоносная армия оказалась на деле разделена на части. Англо-французское воинство выбрало свой путь, и в 1189-1191 годах осаждало Акру, а имперская армия пошла через Балканы и Анатолию, попутно пытаясь решать различные политические вопросы, но их поход закончился весьма печально – 10 июня 1190 года Фридрих утонул при переправе через реку Селиф, началось дезертирство, и третий сын усопшего императора, Фридрих Швабский, привел к Акре лишь горстку своих людей, которые вскоре стали массово гибнуть от малярии. Вскоре умер и сам императорский сын, успев перед смертью основать рыцарский Тевтонский орден.
Джулио I Чезаре изначально не собирался участвовать в осаде Акры, считая, что войск там и без того будет предостаточно. Вместо прямолинейного «нагнать как можно больше народу и ждать с неба погоду» он предложил альтернативный план – пока основные крестоносные армии будут осаждать Акру, романская армия пройдется огнем и мечом по Египту, ослабляя и отвлекая основные силы Саладина от Палестины. Причина столь необычного предложения была проста – романское войско плохо умело в осады хорошо защищенных городов и крепостей, коей была Акра, в то время как мобильные действия значительными массами конницы у Джулио I Чезаре получались лучше всего. Были и другие основания бить по Египту – романскому королю надоели проколы других, из-за которых страдали его интересы, и он планировал взять под свой прямой контроль важные торговые порты и потоки зерна, исключив всех возможных посредников. Правители крестоносцев не желали терять романскую конницу, и потому сопротивлялись плану, но Джулио Чезаре, в общем-то, не зависел от их единоличного решения, и мог заняться выполнением задачи целиком своими силами, что он и сделал. В его распоряжении был большой флот Романской лиги, а также многочисленное воинство – 6 тысяч всадников, 8 тысяч пехотинцев, осадные орудия и возможность дополнительного привлечения наемников из Европы в любой момент, чьей переброской могли заняться купеческие суда.
Романская армия высадилась у Дамиетты и осадила город весной 1189 года. Доверив ход осады своему сыну, Пьетро, Джулио I Чезаре вместе с конницей стал совершать рейды по долине Нила, доходя до самого Каира. Саладин, оценивший эту активность романской конницы, бросил свою армию на запад, в Египет, оставив у Акры лишь заслоны, но противостояли ему не обычные крестоносцы, а лучшие конники Италии, а то и всей Западной Европы, у которых была своя легкая конница, обученная по сельджукским образцам, и потому мало уступавшая легкой коннице сарацин. Романский король, столкнувшись с войском Саладина, повел умелую маневренную войну, то нанося удары, то уходя из-под ответных действий, и тем самым спасая своих людей от лишних потерь. Тем не менее, Салах ад-Дин также не был новичком в военных вопросах, и у пирамид Гизы все же смог навязать генеральное сражение христианам. Джулио I Чезаре решил, что время увиливаний прошло, и бросил своих конников в атаку, разбив часть сарацинской армии…. Чтобы затем уйти на север, и погрузить свое войско на корабли флота, который хозяйничал по всему Нилу, и выйти из-под удара. Следующее сражение Джулио Чезаре с Салах ад-Дином произошло в устье Нила, недалеко от Дамиетты. Флоту христиан удалось разделить сарацинскую армию на переправе, вслед за чем конники короля разбили меньшую ее часть. Султан, понеся серьезные потери, был вынужден отвести свои войска из опасений, что потери помешают ему остановить основную христианскую армию. Это фактически означало потерю Дамиетты, которая пала в начале 1190 года. После этого романцы переключились на Александрию, пользуясь почти полной безнаказанностью [3].
В 1191 году крестоносцы взяли Акру, но между ними случилась размолвка, и поход покинули французы во главе с Филиппом II Августом. Король Ричард Львиное Сердце сразу же запросил помощь у Джулио I Чезаре, предлагая вместе разбить сарацин и взять Иерусалим. Романский король откликнулся, надеясь отвлечь Саладина от Александрии, и морем прибыл в Акру вместе со своими конниками. Вскоре после этого объединенная христианская армия двинулась на Иерусалим, подвергаясь постоянным атакам со стороны сарацинской легкой конницы. Романские всадники постоянно бросали мусульманам вызов, и громили их в мелких стычках, но натиск не ослабевал, пока очередные стычки близ Арсуфа не вылились в масштабное сражение, выигранное христианами. Потери сарацин были столь велики, что Саладину пришлось отказаться от дальнейших попыток навязать генеральное сражение. Тем не менее, Иерусалим он решил защищать до последнего, а крестоносцы подошли к городу вымотанными. Возможности взять его быстрой осадой не было, и воинству пришлось отступить. А затем наметившийся успех крестоносцев и вовсе был испорчен поступками английского короля – сначала он казнил знатных пленников из числа мусульман, сильно озлобив сарацин, а затем вместо нового похода на Иерусалим поддался на уговоры Ги де Лузиньяна, формального короля Иерусалима, и стал осаждать приморские города в Палестине, из-за чего сильно поругался с Джулио Чезаре ди Фиренце. А в 1192 году он и вовсе покинул Ближний Восток вместе с войсками, встревоженный вестями из Франции, где его владения подверглись нападениям со стороны французов. При этом без участия романцев были заключены договора между разными фракциями крестоносцев, в результате чего в Иерусалиме появился новый формальный король, а Ги де Лузиньяну во владение перешел Кипр.
В результате этого Джулио I Чезаре остался один против сарацин. Поддержку ему могли оказать лишь рыцарские ордена, ставшие немногочисленными крестоносцы Иерусалимского королевства, и подоспевшая в Акру после взятия Александрии основная романская армия, состоявшая в основном из пехоты. Всего этого не хватало для решительного взятия Иерусалима, но Салах ад-Дин не соглашался идти на мир на выгодных для христиан условиях. Требовалась хотя бы еще одна победа, достаточно громкая и значимая, чтобы склонить мусульман к миру. Джулио Чезаре решил расставить ловушку, используя все тот же Иерусалим – осадив его основными силами своей армии, он ждал, когда к городу прибудет армия Саладина, чтобы затем сокрушить ее в генеральном сражении. Султан быстро понял план своего визави, но выбор у него был небогатым – Иерусалим требовалось деблокировать, а христиане явно не планировали сдаваться. В результате этого у города развернулось масштабное сражение, открытое, без лишних ухищрений. Лучшие воины Италии и христианского мира сошлись с лучшими мусульманскими воителями. Бой был упорным, большие потери понесли рыцарские ордена, но дело было сделано – сарацин удалось разбить, а их потери исчислялись многими тысячами. Салах ад-Дин пошел на мирные переговоры, и впервые лично встретился со своим самым умелым противником – королем Джулио I Чезаре ди Фиренце. В знак доброй воли, дабы сгладить углы после действий Ричарда Львиное Сердце, итальянец отпустил всех пленных мусульман, за что заслужил признательность и аналогичную любезность со стороны Саладина. Два ярых противника при личной встрече вообще быстро нашли общий язык, и договорились об условиях мира – под контроль Романьи переходил весь берег Египта от Александрии до Дамиетты включительно, а Иерусалимское королевство возвращало все свои территории кроме Иерусалима.
Саладин планировал отыграться за потерянное, но вскоре после подписания мира он умер, а его наследники увязли в усобицах, что позволило христианам укрепить свои позиции в регионе. Сам же Джулио I Чезаре мог возвращаться в Европу. Папа Римский Целестин III поначалу был разгневан тем, что Иерусалим не удалось вернуть в распоряжение христиан, но быстро сменил гнев на милость, и в 1195 году благословил создание собственного романского духовно-рыцарского ордена Святой Матильды Каносской (итал. Ordine dei Fratelli di Santa Matilde di Canossa), или же Каносского ордена. Для его ставки романский король даже выделил сам Каносский замой, принадлежавший его прабабке. Теперь у Романьи появился целиком «свой» рыцарский орден, закрепленный за государством и короной, а не пользующийся широкой автономией как госпитальеры [4]. Целью его существования провозглашалась защита Рима от варваров и еретиков, а Иерусалима – от иноверцев. Престиж короны Романьи вырос еще больше, а торговые потоки, идущие через порты Египта, стремительно обогащали романские города, а романские воины покрыли себя неувядающей славой верных католических воинов. Третий крестовый поход завершился с пользой для Романьи, но также обозначил неприятные тенденции на Святой Земле, которые сильно усложняли защиту христианских владений в Палестине.
Новые проблемы Святого Престола
Римские Папы с начала 1180-х годов менялись очень быстро. В 1181 умер Александр III, и ему на смену избрали Луция III. Тот участвовал в примирении Италии с Фридрихом I Барбароссой, но наотрез отказался короновать королем Италии сына и наследника императора, Генриха, из-за чего между Римом и империей стал нарастать новый конфликт. Умер Луций уже в 1185 году, ему на смену пришел Урбан III, при котором конфликт с императором усугубился. В следующем году тот самый некоронованный король Италии, Генрих фон Гогенштауфен, женился на Констанции Сицилийской, что с одной стороны формировало опасный для Рима союз – а с другой делало возможным унаследование Сицилии императорами Священной Римской империи, что получалось еще хуже. На корону Сицилии мог выдвинуть претензии и романский король, но они были менее обоснованными [5], да к тому же в Риме уже стали опасаться чрезмерного усиления Романьи, и хотели создать противовес Центральной Италии из Южной. Кроме того, Фридрих Барбаросса решил не сдерживаться, и вскоре после свадьбы все же уговорил патриарха Аквилеи короновать королем Италии Генриха, с нарушением традиции, из-за чего Урбан отлучил от церкви всех, кто присутствовал при коронации. А в 1187 году император и вовсе блокировал все пути через Альпы, прервав торговые и дипломатические связи Рима, из-за чего папе пришлось обращаться к Романской лиге за помощью с курьерскими судами. Были зафиксированы попытки императора пробудить в римской коммуне старые настроения, свергнуть синьорию вместе с понтификом, и возродить республику под эгидой империи. В том же году Урбан умер, и на его место избрали Григория VIII, который почти сразу же отправился вслед за предшественником в мир иной.
Новым папой стал Климент III. Он оказался куда более талантливым дипломатом, чем многие его предшественники, и тонко понимал социальные проблемы Рима. В 1188 году он добился заключения нового договора с римской синьорией, который предоставлял ей более широкую автономию во внутренних городских делах, а епископ Рима признавался верховным правителем города, за которым всегда сохранялось право решающего голоса. Это сразу сорвало переговоры императора с коммуной, да и сам он стал готовиться к крестовому походу, из-за чего предпочел примириться с Римом хотя бы на время. Папа пошел навстречу Фридриху, и решил проблему с назначением нескольких германских епископов в пользу него. Впрочем, примирение было недолгим – в 1189 году умер король Сицилии, Вильгельм II Добрый. Законных наследников у него не было, и потому следующим королем по всем правилам должен был стать супруг тетки покойного, Генрих фон Гогенштауфен, будущий император Генрих VI, в пользу которого покойный Вильгельм даже составил завещание. Однако Сицилия считалась вассалом Рима, и потому Папа Римский мог передать корону кому-то другому. Джулио I Чезаре в Италии отсутствовал, недавно отбыв в Египет, так что помешать папе выбрать другого кандидата он не мог, и выбор Климента пал на Танкреда, внебрачного сына Рожера Апулийского и внука короля Рожера II. Понимая, что Сицилии предстоит война с империей, папа настоял на союзе сицилийцев с романцами. Джулио I Чезаре неохотно согласился на предложение – несмотря на ущерб его интересам и уязвленную гордость, он все же понимал, что потерянная корона Сицилии для него не так важна, как недопущение установления гегемонии императоров в Италии.
После смерти Фридриха Барбароссы в Анатолии во главе империи встал король Германии, Генрих VI фон Гогенштауфен, считавший себя единственным законным наследником Сицилии. В 1191 году он вторгся с большой армией в Италию, и, пользуясь тем, что армия Романьи вместе с королем находилась в Палестине, быстрыми темпами прошел к Риму, желая заставить Клементина III возложить на него корону императора. Правда, этот епископ Рима к тому моменту уже умер, и его сменил Целестин III. Сам Целестин надеялся на чудо, но имперцы были решительны, к тому же их поддержало население близлежащего Тускулума, где расположилась императорская ставка. Папа был вынужден пойти на уступки, и все же короновал Генриха императором, после чего тот двинулся дальше, покорять Сицилию. Римляне в отместку разрушили город Тускулум, который в дальнейшем не восстанавливался. А свежеиспеченный император тем временем пользовался выгодным положением, когда романский король отсутствовал, а сицилийский не пользовался популярностью. Танкреда покинула часть баронов, многие города перешли на сторону Генриха VI. Лишь благодаря активным действиям сицилийского флота удалось сорвать осаду Неаполя, и император был вынужден отступить. При этом разгневанные жители Салерно умудрились взять в плен его супругу, Констанцию, и едва не убили ее за предательство ее мужа – но женщина была спасена подоспевшим родственником Танкреда.
В 1193 году из крестового похода вернулся король Романьи. Это был уже не тот былой энергичный и амбициозный воин – возраст (68 лет) все же давал о себе знать, да военные действия на Ближнем Востоке, несмотря на свой успех, утомили короля постоянными интригами и двуличием союзников. Воевать с императором он уже не хотел. С другой стороны, долг есть долг – и потому, дав своим ланчьери отдохнуть, он стал готовить войско к неизбежному новому вторжению Генриха VI. На стороне романцев был опыт, репутация, навыки их короля, и потому в грядущей победе никто не сомневался. Танкред всеми силами старался скрепить отношения с флорентийцами, и заключил помолвку своего малолетнего сына и наследника, Вильгельма, с младшей внучкой Джулио Чезаре, Беатриче. Так как они были родственниками, то папа специальной буллой одобрил такой брак. Понимал опасность столкновения с романцами и Генрих VI, который предпочел найти обходной путь – и нашел его, заключив договор с венецианцами, которые в 1194 году перебросили его войско сразу на Сицилию. К тому моменту Танкред успел умереть, его место занял сын, став королем Вильгельмом III, но сражаться за него никто не стал. Вместе с матерью, бывшей регентшей, он был взят в плен, и император заставил юного императора отказаться от любых прав на корону Сицилии. Поначалу Вильгельму, его малолетней супруге Беатриче ди Фиренце и регентше Сибилле ди Ачерре оказывали почести, они присутствовали как представители сицилийской знати на коронации Генриха королем, и им даже поначалу оставили титулы графов Ачерры – но вскоре император изменил свое мнение, и все они были посажены в темницу, ожидая высылки в Германию.
Именно в этот момент в Южную Италию вступила армия Джулио I Чезаре. Он уже был готов смириться с утверждением Гогенштауфенов в Сицилийском королевстве, но угроза жизни внучки была уже серьезным вызовом. Остро восприняли ее посадку в темницу и многие романские коммуны, из-за чего воинство короля пополнилось городской милицией, наемниками, а на море поддержку обеспечивал большой флот. Ввиду быстро проявившегося деспотизма Генриха сицилийцы не хотели сражаться за него, и император оказался в щекотливом положении. Желая избежать битвы, которую он мог проиграть, Генрих предпочел пойти на переговоры с Джулио Чезаре, и предложил тому большую сумму денег и выдачу ему его дочери в обмен на признание за Гогенштауфенами короны Сицилии. Правитель Романьи потребовал освободить не только Беатриче, но и Вильгельма вместе с Сибиллой ди Ачерре, и всеми ближайшими родственниками низложенного короля, который уже ни на что не претендовал. Требование это было подкреплено воззванием Целестина III освободить узников. В конце концов, Генрих согласился на эти условия, и был признан королем Романьи (но не Римом) как король Сицилии, выплатив огромную сумму денег и отпустив пленников. Правда, отпустил он их не просто так, а лишив земли и титулов в Сицилии. Кроме того, 9-летний Вильгельм был ослеплен и оскоплен по его приказу, дабы уже никогда не претендовать на какие-либо титулы [6]. За это в Италии, включая саму Сицилию, Генриха VI прозвали Чудовищем, и до самой его смерти проклинали как завоевателя, садиста и деспота.
Было понятно, что это только начало, и Генрих VI не остановится. В Романье, ужаснувшись тому, что сделал новый король Сицилии со своим предшественником, стали готовиться к затяжной войне до последнего с императором, а на площадях Флоренции, Лукки и Болоньи активно обсуждалось возможное включение Южной Италии в состав Романьи исключительно из соображений собственной безопасности. Джулио I Чезаре взял своих родственников под опеку, и выделил им содержание, что позволило в дальнейшем двум сестрам Вильгельма стать женами венецианских дожей. Изуродованный Вильгельм вместе с Беатриче, которая отказалась разрывать помолвку, принял постриг, и судьба его остается неизвестной по сей день. Генрих VI еще несколько лет пытался то угрозами, то подкупом уговорить Целестина III признать за ним корону Сицилии, но получал твердый отказ. Воевать с Римом при этом он не спешил, опасаясь авторитета могущественного короля Романьи, с которым сам же испортил отношения. Над Италией вновь сгущались тучи противостояния между гвельфами и гибеллинами, и никто не знал, когда начнется новый виток войны, и чьей победой он в результате закончится.
Наследие
После освобождения своей внучки Джулио I Чезаре почти полностью отдалился от управления, поручив дела своему сыну и наследнику, принцу Пьетро. Он уже был старым человеком, здоровье которого стремительно слабло, и стали появляться болезни, ранее себя никак не проявлявшие. По анализу середины XX века, к 1196 году Джулио Чезаре болел примерно десятком болезней, которые быстро приковали его к постели, и вытягивали из него жизнь быстрее, чем перестраивалась на поле боя романская конница. В конце концов, в марте того же года он умер. Последний указ, который он подписал лично, была бумага о предоставлении особого статуса юридической школе в Болонье в 1195 году, что принято считать датой основания первого университета современного образца [7]. Многих европейцев опечалила смерть столь великого мужа, и соболезнования о его смерти приходили с разных концов Европы. Даже Генрих VI выразил глубокую скорбь, хотя на деле испытывал неописуемую радость – исчезло его последнее препятствие перед крупным походом в Романью на Рим. Однако бог не дал планам императора свершиться – сначала он увяз в подавлении мятежей на Сицилии, а в 1197 году заболел простудой и умер всего за день до объявления о сборе армии для похода в Центральную Италию.
Джулио I Чезаре стали прославлять еще при жизни, что неудивительно, учитывая масштаб его достижений. В дальнейшем его деяния стали приукрашиваться и преувеличиваться, и стал складываться образ благородного рыцаря без страха и упрека, короля-воителя и реформатора, благочестивого защитника христианства. В дальнейшем он стал героем множества историй, романов, народных баллад и прочих художественных произведений, а для итальянского национализма он и вовсе превратился в одного из «Флорентийской троицы» — трех основателей Романьи, которая позднее переродится в Италию. Первой из них была Матильда ди Каносса, добившаяся создания Романьи, вторым оказался Джулио I Чезаре, который сформировал крепкую государственность и отразил все внешние угрозы, заодно покрыв себя славой успешного крестоносца, не раз бившего воинства сарацин, а третьему предстояло стать последним мужским представителем Флорентийского дома, который закрепит достижения предшественников, и объединит в своих руках Центральную и Южную Италию. Из всех трех именно второй, Джулио Чезаре, будет считаться самым успешным и великим, и заслужит канонизацию в качестве безупречного воителя Христа, покровителя романского, а затем и итальянского воинства. Ему не довелось приумножить родовые владения, не считая удаленных Александрии и Дамиетты, но если ранее существование Романьи еще было под вопросом, и при многих королевских домах Европы к двойному вассалу папы и императора относились снисходительно, то к концу XII века авторитет государства поднялся до весьма высокого уровня, и с романским королем были вынуждены считаться все, включая обоих его верховных сюзеренов.
Одной из забавных особенностей народной памяти о Джулио I Чезаре оказалось отсутствие каких-либо почетных прозвищ. Лишь при канонизации он стал Vittorioso – Победоносцем, а до того все просто называли его по обоим именам, делая это с улыбкой, как бы намекая на то, что христианский король вполне оправдал надежды, возложенные на него народом и семьей, и потому лучшим почетным прозвищем для него было собственное имя – Юлий Цезарь. В том, что Джулио Чезаре ди Фиренце был велик, не сомневался никто, а споры о сравнимости масштабов фигур античного и средневекового героев так и остался уделом небольшого количества специалистов. Современники уж точно не сомневались в том, что король Романьи, Сардинии и Корсики является великим человеком. Увы, после очередного впечатляющего подъема, как правило, следует упадок, и правление Джулио I Чезаре не стало исключением. После его смерти наступил период нестабильности и временного упадка государства, что в сочетании с внешними угрозами приведет к полувеку хаоса, гражданских войн и угрозы существованию Романьи. Наступал бурный XIII век….
Примечания
- Строго говоря, путей через Аппенины гораздо больше, тем более хорошо обустроенных и пригодных для марша армии, но в то же время они хорошо известны, и потому запросто могут быть блокированы мощными крепостями. В реале такого не было, так как с местной политической картой постоянно творился бардак, но в АИ превращение Апеннинского хребта в неприступную стену – самое очевидное и необходимое военное решение.
- В реале Фридрих был тяжело ранен, но все же смог сбежать, и какое-то время укрывался от преследования, из-за чего прошел слух о том, что он погиб в бою. Но в условиях АИшки разгром у Леньяно носит характер настоящей катастрофы, и шансов сбежать у императора очень мало. А пленный император – это уже все, конец войны и победные фанфары….
- Как там Наполеон говорил? Один мамлюк победит одного французского кавалериста, но сотня драгун одолеет тысячу мамлюков, или как-то так? Тут, в общем-то, похожий расклад. Романская конница берет верх организацией и коллективной выучкой, а не одиночными военными навыками, причем эта организация имеет четкую основу в государственном и социальном устройстве Романьи, которое и в реале было передовым.
- Не, ну а что? Тевтонцам можно, испанцам можно, а итальянцам нельзя?
- Констанция, супруга Генриха VI фон Гогенштауфена, и Аделасия, супруга Джулио I Чезаре ди Фиренце, являлись сестрами, но Констанция была старше, а значит ее права были более весомыми.
- Судьба Вильгельма после пленения на самом деле неизвестна, но слухи о том, что его ослепили и кастрировали, а затем отправили в монастырь, ходили долгое время.
- Как таковая юридическая школа в Болонье открылась в 1088 году, но это было относительно скромное заведение, не подходящее под современное определение университета. Первый университетский устав Болоньи появился лишь в конце XII века, причем точную дату его появления я так и не смог найти, потому основание этого ВУЗа в разных источниках часто датируется по-разному.