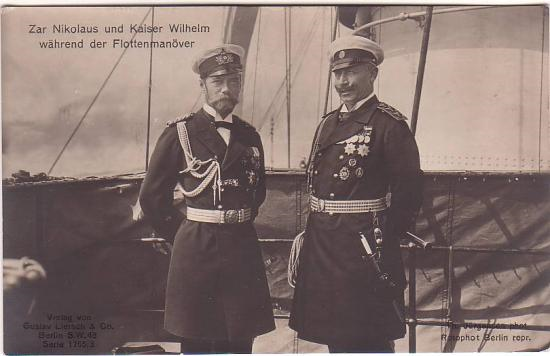Глаголь над Балтикой (Глава 12… а заодно и Глава 13:))
«Блек-блек… бульк!» — сказал камушек, навсегда исчезнув в темной воде небольшого озерца, больше похожего на пруд. Николай, поморщившись, подобрал еще один, оказавшийся на удивление плоским и гладким. Даже странно, откуда бы такой гальке взяться на берегу тихого водоемчика? Ведь не морской пляж, где волны от века катают взад-вперед каменья, обтачивая и шлифуя их до полного совершенства. Впрочем, откуда бы сей «бел-горюч-камень» ни появился, а для забавы, которую почему-то захотелось вспомнить кавторангу, он отлично подходил. В детстве Николаю не составляло труда сделать семь, а то даже и девять блинчиков, а ну-ка …
«Блек-блек-блек…бульк!» — и все.
Хотелось бы сочинить подходящую случаю хайку, но, как на зло, на ум совершенно ничего не приходило.
— Дядя Николай, а что Вы делаете? – неожиданно прозвучал высокий детский голос. Несмотря на явное стремление тщательно выговаривать каждую буковку, «Николай» прозвучало как «Никоай».
Кавторанг обернулся. Из под бежевой шляпки с цветочком, под которой еле-еле уместились пышные русые волосы, на него смотрели на редкость серьезные голубые глаза девочки лет так шести-семи. Очаровательный ангелочек с упитанными щечками, только вот подол платьишка был слегка запачкан понизу. Впрочем, чего еще ждать от ребенка на природе?
Но как она так тихо подошла, что Николай ничего не услышал? Как будто из под земли выросла в трех шагах от него.
— А яаааа…. – протянул кавторанг вспоминая, как зовут девочку
— А я, Аннушка, запускаю камушки блинчиками. Хочешь попробовать?
— Хочу! – очень серьезно ответила юная леди.
Николай объяснил, какие нужны для этого камни и показал, как их правильно держать и бросать. Сперва у девочки не получалось, но после нескольких неудачных попыток пущенный детской рукой кругляш сделал аж три блинчика. Не ожидавшая такого успеха Анна, широко распахнув и без того большие глаза, с шумом втянула в себя воздух и запрыгала на одном месте, маша руками в совершеннейшем восторге.
— Пааадумаешь ! – раздался столь же юный голос у него за спиной, так что Николай едва не вздрогнул, а обернувшись, обнаружил перед собой мальчика, на пару лет старше Ани. В нем кавторанг без труда опознал брата девочки — не то, чтобы сорванец был так уж похож на свою сестру, просто Николай был представлен сегодня родителям обоих сорванцов.
— Сударь, с дамами следует быть галантнее… — начал было Николай, но тут девочка, сожмурив глазки в щелочки, широко открыла рот и показала пацаненку язык во всю длину, еще и помахав им из стороны в сторону. В ответ на это братишка совершил нечто невероятное – поднял обе руки к лицу и, вложив мизинцы в оба уголка рта, растянул ими губы в лягушачью ухмылку, а его указательные пальцы, оказавшиеся возле самых глаз, оттянули веки вниз, так что стали видны глазные яблоки – зрелище тем более жутенькое, что паренек при этом отчаянно скосил зрачки к носу. И, словно этого было мало, напоказ выставил кончик языка.
Поняв, что урок хороших манер не удался, кавторанг предпочел сменить тему.
— Ну, а сколько блинчиков сможешь сделать ты?
Мальчик сбежал вниз, к самой воде, чуть поковырялся в мокром песке и извлек из него камушек. Придирчиво осмотрел, отбросил, поднял следующий — и одним плавным движением метнул его над водой. Камень не теряя скорости «блекнул» дважды, и не приходилось сомневаться, что ему по силам по меньшей мере еще три-четыре блинчика. Но в тот самый миг, когда пущенная умелой рукой галька должна была скользнуть по поверхности пруда в третий раз, неожиданно плеснула рыба. Кавторангу показалось даже, что камень угодил прямо в чешую, но, как бы то ни было, третий блинчик оказался последним.
— Ни-чья, ни-чья! – захлопала в ладоши девчушка.
— Так нечестно! – возмутился ее брат.
— Зато ты попал в рыбу. А это, знаешь ли, мало кому по силам!– пряча улыбку в усы, сказал Николай мальчику, и тот немедленно сменил гнев на милость.
— Я часто кидаю камни. Беру какую-нибудь палку, и кидаю в нее. А еще здорово бывает, если есть лужа или пруд. Тогда палка — это крейсер, а камни как будто снаряды – сообщил мальчуган.
— А вон как раз ветка плывет. С какого раза попадешь, воин? – подзадорил пацана кавторанг. Мальчик, вытянув шею, прищурился, хотя до ветки было не слишком далеко.
— В эту-то? Да вторым камнем!
— А давай!
Первый «выстрел» лег перелетом, второй почти попал, но именно что почти и ветка была поражена только с третьего раза.
— Неправильно ты делаешь – вдруг вмешалась молчавшая до того времени Аннушка:
— Вот как надо!
И девочка, собрав в ладошку несколько небольших камушков, не слишком ловко бросила их в сторону ветки, которая к тому моменту подплыла еще ближе к берегу. Конечно же, ни один камушек не попал, но мальчик не стал смеяться над сестрой, а промолчал, лишь бросив на нее короткий, исполненный глубокого превосходства взгляд.
— Ну почему же? Вот смотри – взялся объяснять Анне Николай:
— Когда кидаешь по одному камушку, тогда целиться легче. Если камень улетел далеко, значит следующий надо кидать слабее, а если не долетел, тогда сильнее. Так и попадешь в конце-то концов.
Но девочка явно не имела сейчас настроения выслушивать поучения старших. Ничего не ответив, она взяла в руку камушки покрупнее и попытала счастья снова.
Со стороны это выглядело изумительно. Лицо девочки стало страшно серьезным, бровки сползлись к переносице, а во взгляде сощурившихся небесно-голубых глазенок вдруг почудилась дымчатая синева дамасской стали. Аня сделала полшага назад, расставив поудобнее крепенькие ножки, плавно отвела ручку с камнями за голову, не спуская глаз с ветки высунула кончик языка и вдруг, единым плавным движением, в котором не было ни капельки обычной детской неуклюжести метнула горстку камней в цель…
Увы – один из них не дотянув совсем немного, бухнулся в воду, второй же перелетел через ветку, так что оба взметнули небольшие фонтанчики воды, причем деревяшка оказалась аккурат между ними. Третий и вовсе ушел куда-то влево, шлепнувшись недалеко от берега.
Вот теперь мальчик, втянув всей грудью воздух, открыл было рот, дабы съехидничать от души – но внезапно передумал и сделал вид, что его тут решительно ничего не касается.
— Дети! Что за поведение? Разве можно мешаться взрослому человеку – внезапно раздался мужской голос, и Николай, оборачиваясь, успел подумать, что умение подкрадываться незаметно дети явно унаследовали от родителей.
Буквально в нескольких шагах от него хмурил рыжеватые брови худощавый мужчина лет тридцати пяти, держащий под руку миловидную улыбчивую блондинку, один взгляд на которую не оставлял сомнений, от кого Аня унаследовала свои огромные, бирюзово-голубые глаза. Чета Завалишиных – они и Николай были представлены друг другу менее часа тому назад.
— Папа! А дядя Николай меня блинчики учил делать!
— Хорошо, дочка, хорошо, а теперь – иди погуляй, только далеко не убегай, сейчас уже за стол пора будет. Алексей, тебя это тоже касается… Прошу простить, Николай Филиппович, дети! Уж такие пострелята, не уследишь!
— Ничего страшного, Ваша Анна совершенно очаровательна, да и Алексей молодец – улыбнулся Николай родителям:
— Они ничуть не мешали, и мне было приятно побыть с ними, так что это я должен благодарить Вас за доставленное мне удовольствие.
Глава семейства вежливо кивнул, чуть улыбнувшись:
— Быть может, вернемся к обществу? Кажется, сейчас там веселье в разгаре!
В каких-то двадцати шагах от них сейчас разворачивался шикарный пикник – гомонили на разные голоса, но дамские сопрано мешались с мужскими басами и слов было не разобрать. Зато постоянно слышался взрослый и детский смех и вообще жизнь била ключом.
— Обязательно присоединюсь к Вам, но чуть позже, с Вашего позволения. Я-то ведь отлучился выкурить трубочку, да так и не успел.
Завалишины оставила Николая и он, не теряя более времени, быстро набил трубку душистым табаком, «раскочегарил» ее и с удовольствием затянулся.
И все-таки, жизнь прекрасна!
Удивительно, но история с Валерией как-то неожиданно соскользнула в область не слишком болезненных воспоминаний. Конечно, после объяснения он впал в буйную мизантропию и с огромным трудом удерживался от того, чтобы взять любимую саблю да и истребить всех — госпожу Абзанову, Стевен-Штейнгеля, себя и кого-нибудь еще в придачу – по большому счету ему было все равно, но убить кого-то хотелось страшно. Кавторанга снедала злость на графа и Валерию, посмевших играть с ним в такие игры, и на себя, поддавшегося их интригам. Но спустя пару дней приступы черной ярости стали перемежаться не менее черной меланхолией. Тогда Николаю становилось все равно, а единственным желанием было остаться наедине с самим собой, чтобы никто не тревожил его огневеющего мрачной болью духа. А потом… потом ему вдруг стало смешно.
Вот ведь чудак, влюбился как мальчишка. Ведь предупреждали, поминал Николай добрым словом и князя и его супругу, что не нужно ему связываться с Валерией Михайловной. Намекнули, да что там – прямо говорили, что за прекрасной внешностью не скрыто достоинство души, а он? Позволил ослепить себя, увлекся, в какой-то момент даже потерял голову, хотя…
Хотя, говоря по правде, в его ухаживаниях немало было и от охотника, предвкушающего удивительный трофей. Он, быть может, не задумывался особо, а ведь было все-таки, было и такое. Ведь льстила ему картина — не избалованный титулом и богатством капитан второго ранга рука об руку со сногсшибательной светской львицей, перед которой падают на колени графья, князья да миллионщики.
Была страсть, желание дотянуться до звезд, завоевав-таки сердце великолепной красавицы, вот только сердечко-то оказалось… Кавторанг никогда не мнил себя казановой и знатоком женских чувств. Но замечал ведь, и не раз, как из под безупречной светскости Валерии Михайловны, то словом, то взглядом выглядывало что-то странное, чуждое ему, недоброе. Не обращал внимания, отмахивался. Может где-то в глубине души и догадывался кавторанг – не пара они с Валерией, вот только задумываться об этом раньше не хотелось, а сейчас пришлось.
А может, все это просто душеспасительные фантазии влюбленного по уши, но отвергнутого ухажера? Или утешает его сейчас уязвленная гордость, ведь как бы то ни было, никому не позволено безнаказанно превращать офицера российского императорского флота в марионетку? Как знать… Сердце еще ныло, душа требовала одиночества, коньяка и «Лунной сонаты» хотя Вагнер тоже подошел бы. А вот копаться в своих чувствах Николаю больше не хотелось.
Зашуршал листвою теплый ветерок и Николай всей грудью вдохнул напоенный запахами лета воздух. Кавторанг привык к свежести морского бриза, запаху соли и морской волны. А вот ароматы напитанной дождями и прогретой солнцем земли, набравшей изумрудной зелени травы, тихо шелестящих ветвей доставались ему не слишком часто. Большая часть жизни военного моряка принадлежит кораблю, а когда удается покинуть его бронированное чрево, тогда будь ты хоть адмирал, хоть матрос распоследней статьи – приморский город примет тебя в свои ласковые каменные объятия. В городе найдет для себя военный моряк все необходимое, положенное ему по рангу для тела и души – особняки, квартиры или койки в экипаже, изысканные рестораны и непритязательные кухмистерские, модные ателье и экономные магазины готового платья, аристократичную оперу и рыночный балаган. И конечно женщины, женщины, женщины… Как умелый купец, город предложит все: любовь до гроба, воспетую поэтами, и любовь платную во всем ее многообразии, от браков по расчету до уличных гулящих девок, чего изволите-с? Но ошибется тот, кто сочтет город угодливым ресторанным человеком, искательно заглядывающим в глаза в надежде на чаевые. Нет, город не таков, он охотник, а не добыча, хозяин, но не слуга. Его объятия уютны и ласковы, но крепки и порочны – грехи на любой вкус предложит тебе город, попробуй, отвергни его дары! Соблазнившийся ими будет навечно захвачен тенетами городских улиц, но не пожалеет об этом, ведь паутина так прекрасна в лунном свете… И бьются в кипении неверных страстей очарованные мишурной суетой люди и, не задумываясь, меняют вечное на сиюминутное радуясь эфемерному барышу…
Кавторанг хмыкнул – ну надо же, на смену чувственному самокопанию явился философический нигилизм! А ведь в обществе присутствуют не только порочные пустышки, но и такие, как князь Алексей и его Ольга, корабел Кутейников им ногие, многие другие. Или вот взять к примеру чету Завалишиных. Конечно, Николай их совсем не знал, но разве может быть испорченной женщина, у которой такой прямой и открытый взгляд и такие замечательные дети? И вряд ли может быть совсем уж плохим мужчина, к которому льнет такая женщина…
Так что нечего малевать мироздание в черный цвет – вокруг нас намешано всякого, и хорошего и плохого поровну. А если сейчас ему видится в первую очередь мрачное, так это, как говорили коновалы древности, исключительно от переизбытка флегмы в организме.
Впрочем, спасибо начальству, времени на самокопания в распоряжении кавторанга оставалось немного. Адмирал в последние пару недель словно с цепи сорвался, загоняв вверенный ему флот до совершеннейшего изнеможения. Сперва офицеры что-то шутили по поводу мухи, совсем некстати укусившей деятельного старика, но позднее кто-то заметил, что никакая муха такого эффекта дать не может, и что это был африканский буйвол, или, быть может, индийский слон. А потом на шутки уже не осталось сил – господа офицеры валились с ног, еле успевая реагировать на следующие одна за другой адмиральские экзерциции.
Досрочно вышли на стрельбы, сперва походили по Финскому, отрабатывая защиты минных полей. Дело это непростое и требующее большой сноровки – поскольку мин в случае войны предполагалось накидать до черта морского, важно было не налететь впопыхах на собственное заграждение. Штурманы с вахтенными исходили потом, прокладывая курсы и выглядывая ориентиры в обход затаившейся до срока подводной смерти. Хотя сейчас, понятное дело, эта самая смерть располагалась только на учебных картах, но адмиральский разнос штурману «Гангута», умудрившегося-таки влезть куда не надо, по мощи воздействия мало чем отличался от подрыва на стандартной отечественной мине с ее сотней килограмм тринитротолуола. Потом стреляли по щитам, пусть даже только стволиковой стрельбой. Но это Николай вполне одобрял – новейшие дредноуты еще не были готовы работать главным калибром, получилось бы бестолковое разбрасывание дорогущих снарядов.
Имитировали прорыв вражеских дредноутов через центральное минное заграждение, для чего «Севастополь» и «Гангут» должны были расстреливать щиты, маневрируя вдоль кромки минного поля. Получилось, кстати будь сказано, не слишком хорошо, процент попаданий вышел посредственным у обоих дредноутов. Еще хуже было то, что башни линкоров работали в унисон через раз на третий.
Для того, чтобы вести эффективную пристрелку современному линкору нужно стрелять залпами о четырех снарядах в каждом. Это несложно: башен у новейших русских дредноутов четыре, в каждой три орудия, поэтому в залпе участвуют по одной пушке из каждой башни. Остальные в это время наводятся-перезаряжаются и ждут своей очереди, если готовы. Дать сигнал в башни тоже ничего не стоит: дредноут оснащен приборами управления огнем знаменитой фирмы «Гейслеръ и К», позволяющими назначить каждой башне и орудие к выстрелу и углы наводки для него, рассчитанные главным артиллеристом.
Но есть одна проблема, и имя ей – качка. Хоть дредноут и велик, но качает его все равно, вот и приходится комендорам постоянно «подкручивать» прицел, чтобы компенсировать крен корабля. А пушка тяжела, управляется медленно, постоянно держать орудие наведенным на цель никак не получается, тут ловить момент надо и вот потому-то наводчик так и важен. Коли сумел выстрелить вовремя – исполать ему, снаряды лягут точно, а если нет, так никакое мастерство управляющего артиллерийской стрельбой делу не поможет.
Эх, когда ж наконец, сбудутся обещания представителей «Гейслера»? Уже год сулятся поставить флоту «жыроскопический кренометръ», способный точно уловить, когда корабль на ровном киле. Тогда морская стрельба стала бы сплошным развлечением: как только орудия заряжены и выставлен прицел, главарт нажимает кнопочку, замыкается цепь – и в миг, когда корабль и в самом деле оказывается на ровном киле, следует залп всеми назначенными орудиями. И никакой поправки на качку! Это был бы артиллерийский рай… Но, по всей видимости, Господь Вседержитель в бесконечной мудрости своей считал, что в рай господину капитану второго ранга еще рановато, так что умникам из «Гейслеръ и К» никак не удавалось довести свой «кренометръ» до ума. А кавторангу оставалось только школить своих стрелков.
Увы — малоопытные еще наводчики «Севастополя» то давали залп преждевременно, то слишком долго выцеливали, от чего залп не складывался. Редко четыре орудия стреляли почти одновременно, хотя бы одна пушка либо излишне спешила или запаздывала, иной раз и вовсе пропуская залп. В итоге снаряды ложились некучно, что затрудняло пристрелку и поражение цели.
Конечно же, ничего странного или позорного в этом не было, корабли только начинали боевую подготовку, так что ждать от них соответствия высоким стандартам Российского императорского флота было нельзя, да никто и не ждал. Адмирал, назначая упражнение, отнюдь не зверствовал, стрельба по неподвижному щиту с четырех- четырех с половиной миль на скорости в 14 узлов считалась в русском послецусимском флоте детским упражнением. С такого расстояния Николай выбил бы 50% попаданий не то, что без дальномера – с завязанными глазами. Но сейчас ошибки следовали за ошибками – неверно определяли дальность до щита, ошибались при передаче данных в башни, а в самих башнях…
Что интересно, для только что вошедшего в состав флота корабля отстрелялись не так уж и плохо, а если начистоту – очень даже ничего и адмирал не сделал никакого разноса. Но ближе к вечеру, когда оцарапанные мелкокалиберными снарядами щиты, по которым упражнялись «Гангут» с «Севастополем», оттащили в сторону миноносцы, Николай Оттович фон Эссен вывел на позицию первую бригаду линкоров. И четыре старых броненосца показали класс.
Были пущены лайбы – цель более сложная, нежели щит, уже хотя бы потому, что на лайбе поднят и зарифлен парус, так что она не стоит на месте, а движется, покорная воле ветров и волн. А затем, в подступающих сумерках, когда паруса подвижных мишеней уже терялись на фоне темнеющего неба, первая бригада линкоров ударила по ним с семи с половиной миль – и в какие-то четверть часа раскатала обе лайбы по бревнышку. При том, что стреляли отнюдь не боевыми снарядами со взрывчаткой, а учебными болванками.
— М-да, господа – только и сказал, опуская бинокль, командир «Севастополя» Бестужев-Рюмин. Вот так. Вроде бы и не упрекает никто, да и не заслужил и сам отлично об этом знаешь, но все равно чувствуешь себя проштрафившимся первогодком-гардемарином. Умеет адмирал давить на психику, ох умеет, размышлял Николай, не сомневаясь, что его коллега с «Гангута» сейчас скрипит зубами точно так же как и он сам.
Но на этом веселье только начиналось.
Кавторанг чувствовал себя белкой в колесе, засунутом внутрь сумасшедшего калейдоскопа. Стрельбы противоминной артиллерией и снова – стволиковые стрельбы главным калибром, отработка эволюций в строю, отражение атак миноносцев, затем – заскочили в Гельсинки, в темпе приняли уголь – и всей эскадрой в Балтику. Сперва ходили вдоль шведских берегов, причем миноносцы отрабатывали минирование и поиск транспортов неприятеля. В итоге нашли «Дристигхетен» и «Тор» — шведы не утерпели и вывели пару броненосцев береговой обороны, посмотреть чего это русские чудят. Потом двинули главными силами к Килю, но подходить не стали, вновь отрабатывали пиратство и минирование вражьих вод из-под прикрытия линейных бригад. Затем развернулись обратно, имея задачей уклониться от специально оттянутых назад крейсеров, а крейсерам, соответственно, адмирал приказал во что бы то ни стало разыскать линейные силы… В общем, веселились вовсю, так что когда вернулись в Гельсинки, господа офицеры буквально валились с ног. Дошло до того, что известный выпивоха и жуир лейтенант Евсеев, обыкновенно пышущий здоровьем, а ныне имеющий иссиня-бледный вид, страшно вращая налитыми кровью от недосыпа глазами, отказался даже от увольнительной, заявив что всем благам мира предпочитает койку в каюте на двое суток. Сутки отсыпался, потом все же передумал.
В такой суматохе мучиться амурами приходилось на бегу, что оказало на Николая самое целительное воздействие. Плохо бывало только ночами, когда он, в размышлениях о бывшей своей мечте иной раз не мог уснуть, но и тут адмирал входил в положение кавторанга, регулярно устраивая ночные тревоги…
И – приглашение Ольги на пикник, которое было доставлено ему почтовым катером, подвалившим сразу же после того как могучий линкор замер на рейде. Ольга сама была в числе приглашенных, но просила Николая сопровождать ее – «Баян» еще не вернулся из Кронштадта и потому князь отсутствовал, о чем Николай изрядно сожалел. Не в том размышлении, чтобы изливать душу лучшему другу, но хлещущее через край жизнелюбие и превосходное чувство юмора Алексея было бы сейчас несомненно кстати.
Впрочем, здесь и в отсутствие князя веселья было предостаточно. Присоединившийся к обществу кавторанг как раз успел к началу анекдота, рассказывал полноватый господин, которого Николай не имел чести знать. А тот, постоянно поправляя съезжающий на затылок котелок, и, словно бы дирижируя самому себе тросточкой, зажатой в короткопалом и изрядно волосатом кулаке, жизнерадостно излагал, пародируя уличного зазывалу:
— Какой же русский не любит быстрой езды? Автомобили «Руссо-Балт», сделано в России! Скорость – сорок верст в час с гаком! А теперь – и с тормозами!
Мужчины посмеивались, но женское внимание поглотил предстоящий визит французского президента в Санкт-Петербург:
— Ох, Вы даже не представляете, что творится в ожидании прибытия этого Пуанкаре! Перед самым отъездом из Петербурга я заглянула к мадемуазель Жюли, думала о новой шляпке – Боги! Какие шляпки?! Все фасоны совершенно новые, последняя французская мода, ателье буквально завалены заказами…
— Неужто опять что-то от эмансипаток?
— Нет, что Вы, милая Анастасия, настолько далеко не зашло, но…
— А жаль…
— Дамы, ну это уже просто неприлично! Конечно новые панье, «танго» со шнуровкой …
Разговор уходил в совершенно недоступные мужскому уму эмпиреи парижских мод, да кавторанг особо и не вслушиваться. Узкая, затянутая элегантной перчаткой ладошка легла ему на предплечье. Ольга, конечно, кто же еще.
— Дорогой мой Николай, что-то Вы сегодня чрезвычайно задумчивы. А Вы слышали новость? Через неделю к нам на гастроли прибывает Большой театр!
— Да это не новость, а слухи, причем – с изрядной бородой, артистов Большого нам обещали еще месяца полтора тому назад! – отозвался полноватый знаток автомобильных анекдотов.
— Уж не знаю, что их задержало, но ручаюсь вам, господа – Большой действительно едет в Гельсинки и будет у нас не позднее, чем дней через десять-двенадцать. Полагаю, что в следующий понедельник газеты дадут сообщение.
— А Наталья Степановна? Ермоленко-Южина? Будет? Божественное, божественное сопрано!
— Как по мне, ее излишне перехваливают, — произнес молодой чернявый господин с небольшими, обильно напомаженными усиками:
— Да, ее голос, безусловно, неплох, но до несравненной Дейши-Сионицкой ей ой как далеко.
— Могу только порадоваться, милостивый государь, что Вы не живете в эпоху Фридриха третьего – с легкой улыбкой отвечал ему высокий, худощавый лейтенант.
— А причем тут Фридрих, сударь?
— Видите ли, сей достойный представитель династии Гогенцоллернов настолько обожал театр, что старался бывать в нем ежедневно и много общался с артистами. И вдруг, в одной из берлинских газет, ему на глаза попадается рассказ «Генриетта, прекрасная певица», вышедший из под пера некоего господина Рольштаба. В рассказике этом… как бы выразиться… нет-нет, ничего фривольного или крамольного, но скажем так: автор позволил себе НЕ восхититься сценическим искусством певицы Генриетты Зоннтаг, которую кайзер хорошо знал. Из-за этого Фридрих III был настолько расстроен, что следующие несколько дней незадачливому театральному критику пришлось провести в одной из тюремных камер Шпандау…
Николай от души рассмеялся, сделав себе отметку в памяти: надо не забыть раздобыть билет на гастроли Большого.
Глава 13
Впоследствии Николай удивлялся, сколь моментально ощущение незыблемости мира сменилось предчувствием неумолимо накатывающейся войны. Когда он уходил в море, Гельсинки почивал в блаженной полудреме привычного своего существования и казалось, что благодати не будет конца. Сияли витрины многочисленных магазинчиков, мимо которых прогуливались улыбчивые фрекен в модных шляпках, спешили по своим делам молочницы и зеленщики, задорно выкрикивали новости мальчишки-газетчики. Свежие фрукты и цветы, лежащие на лотках торговцев, полнили воздух летними ароматами, а чистенькие мостовые, под взыскующими взорами дворников с казенными бляхами, казалось, сами стремились стряхнуть с себя привычный городской сор. Весело звенели трамваи, грохоча на поворотах, многие окна стояли распахнутыми настежь, услаждая жильцов теплом и солнцем короткого балтийского лета. Казалось, что только эта реальность незыблема и вечна, а все эти австро-венгрии, сербии, кризисы, гаврилопринципы, эрцгерцоги и прочие гогенцоллерны настолько призрачны и эфемерны, что существуют только в газетных строчках, надиктованных воспаленной фантазией запойного журналиста. И если даже они на самом деле где-то и есть, то настолько далеко, что никакие их треволнения не могут коснуться мира и покоя Российской Империи.
А затем внезапно, вдруг, все роковым образом изменилось. Теперь уже милые сердцу и радующие взгляд картины привычного бытия казались чем-то невыносимо изящным, хрустальным, настолько утонченным, что не может существовать сколько-нибудь долго, и живет, быть может, свои последние секунды. Оставалось только радоваться каждому такому мгновению, потому что наслаждаться миром осталось совсем чуть-чуть, а затем тяжелый, потемневший от гари и запекшейся крови молот войны грянет в привычную реальность, и она разлетится мириадами звенящих кусочков, оставляя вокруг тебя только грязь, мучения, огонь и смерть.
Для Николая «вдруг» наступило во время визита Пуанкаре в Россию, куда «…истинно-демократический президент, послушный выразитель воли свободного французского народа…» прибывал 20-го июля 1914 года. В сложном церемониале встречи лидера Франции, флоту выпала честь первым приветствовать высокого гостя.
Не то, чтобы Раймонд Пуанкаре жаловал морские круизы, но сухопутный путь лежал через Германию, по территории которой президент Третьей республики путешествовать категорически не желал. Во исполнение воли первого лица страны, французская эскадра вышла из Дюнкерка 15 июля, держа курс на Балтику — к Кронштадту и Санкт-Петербургу. Встречать ее к горлу Финского залива вышли наиболее впечатляющие силы российского императорского флота. Могучие дредноуты «Севастополь» и «Гангут», вместе с уже устаревшими, но все же грозно щетинившимися многочисленными орудиями «Андреем Первозванным» и «Императором Павлом I», развернулись строем фронта, салютуя заморским гостям, на фалах взметнулись приветствия.
Не занятые вахтой офицеры кучковались на мостиках, разглядывая и обсуждая французские корабли, а поскольку настроение царило праздничное и оживленное, то и разговоры текли легко и остроумно. Николай со старшим офицером обсуждали достоинства новейших французских дредноутов «Франция» и «Жан Бар», которые, тяжело пыхтя тремя трубами каждый, медленно проходили сейчас вдоль строя русских кораблей, причем на одном из них присутствовал сам Пуанкаре. Стороны сошлись во мнении, что достоинств у иностранных линкоров довольно много… но и недостатков хоть отбавляй.
— А все же нос у этих детищ французского гения мокрый – говорил Беседин:
— Хоть борт и высок, но кто же башни так близко к форштевню ставит? Перетяжелили оконечности, лягушачьи дети, теперь будут воду черпать на любом волнении.
— Это да, плохо, хотя мы и сами крокодилы те еще – борт низковат так что в волны зарываемся не хуже. Зато у них в носовых и кормовых башнях по четыре ствола, так что по носу ему пристреливаться удобнее, чем нам, и по корме, кстати, тоже – отвечал Николай.
— Да и бортовой залп неплох, десять пушек, как у «Кенига» — подхватил Беседин.
— Ну, здесь они намудрили. Конечно, большой плюс французам, что в кои-то веки сделали линкор, похожий на боевой корабль, а не помесь Нотр-Дам-де-Пари с Комеди Франсез, и с Эйфелевыми башнями вместо мачт впридачу. Но эта их мода, распихивать орудийные башни по бортам, непонятна: у «Кенига» десять орудий, и все они участвуют в залпе, а у «Франции» как и у нас – двенадцать, но по борту могут стрелять только десять. «Севастополю» бортом пристреливаться быстрее и удобнее, там, где я сделаю три четырехорудийных залпа, французы – только два, хотя и пятиорудийных. К тому же хоть пушки у них и двенадцатидюймовые, но, похоже, послабее наших будут. Нет, Александр Васильевич, выглядит «Жан Бар» импозантно, не спорю, но один на один я его раскатаю.
— Зато гляньте, как у него противоминная артиллерия над водой высоко – не то, что наши казематы.
— Это да, чего не отнять, того не отнять…
— Ссссоюзнички… — прошипел сквозь зубы Дьяченков 2-ой, незаметно присоединившийся к беседующим офицерам.
— А что ж так невесело, Виктор Сергеевич? — улыбнулся старший офицер
— А то, господа, что война на носу. Полыхнет со дня на день, помяните мое слово. – мрачно пророчествовал старший штурман, убежденный в своих словах много больше, чем Кассандра в падении Трои.
— Что, прямо завтра? Или может, все же до послезавтра дотерпит его австро-венгерское Высокопревосходительство?
— Кабы и послезавтра, так я не возражаю. Тогда немцы заткнут своим «Хохзеефлотте» Балтику как бочку затычкой, и сидеть бы этим… – Дьяченков резко кивнул в строну французской эскадры, продолжая:
— Сидеть бы этим всю войну в Гельсинки, и к зиме было бы у нас шесть дредноутов, а не четыре. Да только сейчас еще не начнут, вот уползет Пуанкаре в свой Париж, тогда…
— Экие Вы, штурмана, пессимисты – улыбнулся Беседин:
— Я, почитай, с 1908 года только и слышу: «Война! Война на носу! Никак не позднее, чем со следующего понедельника!». Оно вроде и верно, если на международную обстановку посмотреть: то в Европе кризис, то турки с греками резаться начинают, или еще что случается такое, что перестаешь ночами спать в ожидании генеральной баталии. А на деле – пшик, побурлило и успокоилось, и что сейчас будет – никто не знает.
— Кое-кто все же знает – пробурчал слегка уязвленный Виктор Сергеевич:
— Точно Вам говорю: не зря, не просто так Пуанкаре к нам засобирался, не на блины с малиновым вареньем он к нам едет. Будет он Государю Императору о союзническом договоре напоминать, убедиться хочет, что Россия-матушка от слова своего не отступится. А раз не через послов, сам заявился – значит, совсем припекло и со дня на день начнется.
— А Вы, Николай Филиппович, что скажете? – пожал плечами, теряя интерес к теме Беседин
— Я бы на месте немцев подождал еще пару недель, перед тем как начинать – задумчиво ответил кавторанг.
— А почему именно две недели? – удивленно воззрился на него Виктор Сергеевич, а Александр Васильевич тонко улыбнулся, предвкушая потеху.
— Дело в том, что буквально вчера, я с огромнейшим трудом раздобыл билет в Финский национальный, на гастроли Большого театра. Тридцатого июля они дают «Князя Игоря», и, доложу я Вам, со стороны кайзера было бы величайшим свинством начинать войну раньше этого срока. Потому как если объявят мобилизацию, то на оперу я наверняка не попаду – пряча улыбку в усы закончил Николай.
-Вам все шуточки! – взъярился Дьяченков:
— Да Вы хоть знаете… Вы знаете, что завтра Государь Император объявит о досрочном выпуске военных училищ?! Вы понимаете, что это означает?!
— Господи, да если сам Государь объявит об это завтра, откуда ж Вам сегодня об этом известно? – развеселился Беседин, но Маштакову вдруг стало совсем не до смеха. Он помнил, что то ли дядя, то ли двоюродный брат Виктора Сергеевича занимал высокий пост в одном из кавалерийских училищ и если им что-то такое сообщили, пускай неофициально, на ушко, то…
То дела действительно плохи, потому что досрочный выпуск означает лишь одно – армия разворачивается во всю мощь, до отказа напитывая свои корпуса ротами и батальонами. Это, конечно, еще не мобилизация, но даже серьезнее – мобилизованного крестьянина, случись что, можно отправить домой, он только рад будет, но вот офицера, пусть и недоучившегося, обратно в юнкера не загонишь. И если ТАМ приняли такое решение… значит, дела обстоят куда хуже, чем казалось Николаю. Много хуже.
Старший штурман, бросив исполненный яростного негодования взгляд на обоих офицеров, развернулся и с четкостью, сделавшей честь любому кавалергарду, быстрыми шагами направился к трапу. Так что, когда Николай поднял глаза, Дьяченкова уже и свет простыл и даже рассерженный стук его каблуков уже затих в отдалении.
— О чем задумались, Николай Филиппович? – улыбаясь, спросил Беседин кавторанга
— Все больше о высоком. Если война с германцем действительно начнется, то рейнское к обеду, как я понимаю, подавать перестанут?
Но настроение было испорчено и Николай, откланявшись, оставил старшего офицера в одиночестве. А к вечеру того же дня в глубине души окрепла уверенность, что Дьяченков прав и война неизбежна.
Впрочем, от этого на «Князя» хотелось еще сильнее – предчувствие скорого перехода к военным будням требовало взять от последних мирных дней по максимуму. Николаю с большим трудом удалось раздобыть билет, но он не был уверен в том, что эта мелованная, плотная и пахнущая типографской краской бумажка гарантирует ему участие в столь замечательном событии культурной жизни Гельсингфорса. И не в кайзере было дело — командующий Балтийским флотом, Николай Оттович фон Эссен, хотя и сбавил слегка обороты в деле подготовки экипажей, но все же продолжал гонять вверенное его попечению войско до седьмого пота. Кто мог знать заранее, что придет в голову озорному старику к следующей субботе? В обычное время на флоте стремились выполнять все положенное с понедельника по пятницу, чтобы дать офицерам и нижним чинам проводить субботу и воскресение в увольнительных, хотя случалось по-всякому. Теперь же строить планы на будущий отдых стало и вовсе затруднительно.
День за днем проходили в напряженных тренировках и сборах – маски были сброшены, никто уже не сомневался в том, что флот готовится к войне. Моряки с дрожью вспоминали позор Порт-Артура, когда японские миноносцы в первую ночь войны обрушились на беспечную русскую эскадру, повредив лучшие ее корабли. Такого больше не должно было повториться, и потому к грядущим перипетиям готовились все и повсеместно. Минные заградители принимали в свои бездонные чрева сотни и сотни черных рогатых шаров, коими будет перекрыто горло Финского залива от Порккалла-Уд до самого Наргена. На этой минной позиции, именуемой «Центральной» линкоры Балтфлота должны будут встретить врага, если тот рискнет бросить свои эскадры на прорыв к столице Российской Империи. Но одной только ею дело не ограничивалось: подводная паутина невидимых глазу минных линий должна была увязать острова Моонзунда в единую, неприступную крепость. И она не останется без гарнизона: на Эзель и раньше постоянно базировались «Апраксин» с «Сенявиным» да дивизион старых миноносцев, но сейчас туда же ушли обе бригады старых крейсеров, включая «Баян» князя Еникеева. Вообще-то база на Эзеле имела все необходимые запасы для этих кораблей, но для того, чтобы не транжирить их раньше времени крейсера грузились углем и снарядами в Гельсинки и Ревеле, так что Николай к большой своей радости смог повидаться со старым другом.
А вот Либаву решено было оставить – слишком далеко от главных сил оказалась эта передовая база русского флота, слишком слаба была ее оборона, а значит – слишком легко немцы могли бы отрезать и разбить находящиеся в ней легкие силы. Их исход Маштаков наблюдал самолично: легкий бриз ласково перебирал фалы «Севастополя» и «Гангута», вышедших немного поманеврировать недалеко от Моонзунда, когда на горизонте показалась «Анадырь» — база подводных лодок, медленно ползущая из Либавы ко входу в Рижский залив. А спустя четверть часа стали заметны приземистые, сливающиеся с волной силуэты подводных лодок, следующих за своей базой… Кавторанг и рад был бы сказать: «как котята за кошкой», но в грязноватой и кургузой «Анадыри» не было ни грана изящества и чистоплотности, свойственных семейству кошачих, так что на ум пришло: «как поросята за хрюшкой».
А самое главное – под конец месяца на рейд Гельсингфорса пришли долгожданные «Петропавловск» и «Полтава». Конечно, до готовности к походу и бою им было совсем далеко, и при самом интенсивном обучении дредноуты обретут боеспособность уже только в следующем, 1915-ом году, но все же, но все же… Зрелище четверки мощнейших линкоров, способных обрушить на неприятеля чудовищную мощь сорока восьми новейших двенадцатидюймовых орудий радовало неимоверно.
Наконец подошло и 30-е июля. Не то, чтобы Николай был таким уж большим поклонником оперы, но нельзя же пропускать гастроли первого театра Империи, а каковы исполнители! Князь Игорь –Хохлов, чей неподражаемый вокал позволял ему исполнять как баритоновые, так и басовые партии и за что сей почтенного маэстро звали не иначе как «поэтом звука», Кончак – Трезвинский, Ярославна – чудная Ермоленко-Южина…
Опера полностью поглотила внимание Николая, и когда смолк заключительный хор, кавторанг чувствовал себя изрядно восхищенным и даже слегка растроганным. Но за утолением потребностей души пришло напоминание о потребностях плотских. Глянув на ассортимент театрального буфета, кавторанг мысленно сморщился – превосходная степень чувственного наслаждения требовала соответствующих моменту вкусовых ощущений, а тут…. И потому Николай предпочел заглянуть в какой-нибудь ресторанчик, коими богаты примыкающие к набережной улочки Гельсингфорса. Извозчиков уже расхватали, так что пришлось пройтись пешком до трамвая – впрочем, весенняя свежесть напоенного морским ароматами воздуха располагала к прогулке.
И до отхода катера оставалась еще пара часов, когда Маштаков, совершая неторопливый променад по вечерней Эспланаде, созерцал аккуратные витрины многочисленных магазинчиков в поисках подходящего заведения.
А вот и «Кольме Круна»! Или… «Колме Крууна»? Не считая самих финнов, один лишь Аллах способен разобраться в правильном произношении языка страны Суоми, — подумал Маштаков. Но, кажется, именно этот ресторанчик упоминал Володя Генке, известный эпикуреец и чревоугодник, по попущению Господнему пребывающий в должности вахтенного начальника линкора «Император Павел I». Но в вопросах, не касающихся службы, на мнение Генке вполне можно было положиться, а уж в выборе ресторации – особенно. Потому Николай, справедливо рассудив, что от добра бобра не ищут, смело двинулся в сторону скромной черной двери ценного дерева (дорогого стоит такая скромность!) Услужливое движение затянутой в белую нитяную перчатку руки швейцара – и дверь распахнулась, пропуская кавторанга внутрь.
Сдав фуражку крепко сбитой светловолосой фрекен, едва заметной в махонькой гардеробной, кавторанг получил взамен округлый бордовый номерок. Спрятав безделицу в карман, Николай, в два шага преодолев небольшой коридорчик, остановился и обвел взглядом открывшийся ему овал обеденного зала.
Он была небольшим, на полтора десятка разместившихся вдоль стены столов, укутанных белоснежными скатертями, на фоне которых черное резное дерево тяжелых стульев выглядело чуть более изящным, чем в действительности. Несколько нешироких круглых колонн белого камня подпирали выгнутый потолок, с которого свисали люстры, украшенные позолоченными финтифлюшками. В центре зала расположился небольшой каменный пруд, наполненный водой, причем в ней плавали красивые разноцветные рыбки. Посреди пруда из вод выступала небольшая гранитная стела, на которой лежала, уронив голову на руки, бронзовая русалка элегантнейших форм. И пруд и русалка являлись весьма необычным атрибутом для ресторации, и потому Николай невольно задержал на них взгляд, тем более что Генке ни о чем подобном не упоминал.
— О, какие люди! Николай Филиппович, чего же Вы стоите? Давайте же к нам, прошу Вас!, — раздался знакомый, чуть хмельной мужской голос. Кавторанг не сразу вспомнил его обладателя, хотя обращенное к нему лицо было в высшей степени колоритным.
В трех столах от Николая расположился по медвежьи огромный в плечах и весьма грузный мужчина лет сорока или чуть-чуть за сорок. Его широкое круглое лицо обрамляли настолько крупные и густые бакенбарды, что один только взгляд на них пробуждал мысли об африканских джунглях. Все в нем было велико – руки и ноги, более всего подходящие Илье Муромцу, широченные ладони и пальцы, толщиной едва ли не с ножку стула. Черты его лица были правильны и пропорциональны – но, повинуясь общей тенденции, едва ли не вдвое более крупны, нежели у обычного человека.… Одни только глаза выбивались из ряда вон – будучи вполне нормальных размеров, но волею Творца помещенные на сию исполинскую физиономию, они выглядели на ней совсем маленькими, и вкупе с несколько обвислыми щеками придавали внешности сего почтенного господина некое сходство с английским бульдогом.
Разумеется, забыть столь колоритную фигуру было решительно невозможно – Маштакову призывно махал рукой старший офицер «Славы». Вообще говоря, главных офицеров первой линейной дивизии Николай знал в лицо и по имени, но окликнувший его гигант получил назначение не больше месяца тому назад, а до того служил на Черноморском флоте. Они виделись всего лишь один раз, но были представлены друг-другу. Фамилия этого здоровяка… Русанов, кажется. Точно – Русанов, но вот имя-отчество никак не вспоминалось. Кавторанг шел к ломившемуся от закусок столу, дружелюбно улыбаясь и матеря про себя столь некстати проявившуюся забывчивость. И уже протягивая для рукопожатия руку (скрывшуюся в ковшеобразной ладони окликнувшего его офицера) он наконец-то вспомнил:
— Рад видеть Вас в добром здравии, Всеволод Львович!
— Присаживайтесь, Николай Филиппович, не побрезгуйте!
Тут только кавторанг обратил внимание, что ужинает Русанов отнюдь не в одиночестве.
— Простите, но не могли бы Вы представить меня?
— О! Прошу прощения. Дорогая, позвольте представить Вам светлое будущее отечественной морской артиллерии, опору и надежу Российского императорского флота, блестящего офицера, могучее плечо которого, надо полагать, в самом ближайшем будущем украсится адмиральскими эполетами… Капитан второго ранга Маштаков Николай Филиппович! Уважаемый Николай Филиппович, представляю Вам умнейшую из прекраснейших властительниц мужских дум – моя нежно любимая двоюродная сестра — Елена Васильевна Антипина!
Николай коротко поклонился молодой женщине, сидевшей напротив Русанова, и Елена Георгиевна улыбнулась ему в ответ. Возможно, это была всего лишь дань обычной вежливости, но улыбка получилась куда теплее, чем требует этикет при представлении незнакомого мужчины. Скорее всего так вышло потому, что уголки прекрасных губ госпожи Антипиной подрагивали от еле сдерживаемого смеха.
— Очень рада знакомству, Николай Филиппович… Всеволод! Ваши манеры ужасны! Что подумает о нас этот джентльмен? И как же Вы прилюдно осмеливаетесь делать даме столь двусмысленные намеки? Общественное мнение считает, что красавицам ум ни к чему и полагает красивых женщин глупышками, так что назвать меня умнейшей среди них, это вовсе не комплимент! А Вы при этом умудрились еще и намекнуть, что среди красавиц я выделяюсь лишь умом…
Русанов, до того ухмылявшися во всю ширь, не выдержал и гулко расхохотался.
— Зато уж в остроте языка тебе равных нет, сестрица!
Здесь Николай почел возможным вмешаться:
— Я полагаю, что никому здесь не нанесу обиды, отметив, что никогда не видел, да и не ожидаю встретить женской красоты, среди которой Вы, Елена Васильевна, могли бы выделяться лишь умом. И уж тем более я не рассчитываю встретить женский ум, в сравнении с которым, Вы могли бы отличиться только красотой.
Наградой ему стала еще более теплая, чем в первый раз улыбка, и взгляд огромных, смеющихся глаз цвета ясного летнего поднебесья.
— Бог ты мой, это же почти белый стих – да еще вот так, экспромтом… Вот видите, Всеволод, как говорят истинные джентльмены? Бедная, бедная Настасья, Вы ей наверное, никогда ничего подобного в жизни не сказали! Уверена, Вы только подшучиваете все время, как надо мной сейчас.
Русанов в шутку втянул голову в плечи и закрылся растопыренной кистью, размером с большую суповую тарелку
— Что Вы, что Вы, Елена! У Настасьи Никитичны не забалуешь, она никогда не потерпела бы моего остроумия. Вы только не передавайте ей моих шуток – моя жена прекрасна, как бутон распустившейся розы, но когда я вижу этот прелестный и нежный цветок с чугунной сковородкой в лепестке, я страшно робею!
— Но что же Вы стоите, Николай Филиппович! Наши с братцем семейные шуточки могут ввести в смущение кого угодно, и мне, право, совсем неудобно, что я заставила Вас все это выслушивать. Пожалуйста, присаживайтесь, а я попытаюсь вспомнить обязанности гостеприимства, — и Николай удостоился третьей улыбки.
За спиной Маштакова уже стоял незамеченный, неслышно подошедший человек, и стоило только Николаю присесть, как на накрахмаленную скатерть перед ним легло отделанное кожей меню. Елена Васильевна продолжала перешучиваться с Русановым, не отвлекая Николая от выбора блюд, и потому кавторанг, глядя одним глазком в меню, рискнул другим глазком внимательнее рассмотреть свою очаровательную собеседницу.
Сидящая напротив него женщина была, пожалуй, чуть старше двадцати лет, и ничего от гигантизма брата не было в ее облике. Вьющиеся каштановые волосы, уложенные в не слишком сложную, но очень элегантную прическу прекрасно гармонировали с огромными зелеными глазами. Аккуратный овал лица, высокие скулы, чуточку курносый нос, пухлые губки… Быть может, ее внешность и не являлась каноном классической красоты, но госпожа Антипина была, безусловно, очаровательна. Каждый взмах длинных ресниц, каждая улыбка, поворот головы – любое ее движение дышало грацией молодой газели и тем, что искушенные в женской красоте французы называют charme unique
Тут кавторанг наконец осознал, что наслаждаться женским обществом «в один глазок» у него не получилось. Николаю стоило известных усилий заставить себя вернуться к изучению меню, прекратив довольно нагло пялиться на сидящую напроти внего даму. Была ли Елена Васильевна поглощена разговором с братом, или же предпочла не замечать некоторое отступление от этикета, допущенное Маштаковым – сказать было решительно невозможно.
Николай продиктовал заказ, тихонько распорядившись подать немедля три бокала и бутылку «Клико Демисек», что, безусловно, было немалым расточительством для офицерского жалования, зато полностью соответствовало торжественности момента. Человек исчез, и почти тут же появился вновь, почтительно неся на серебряном блюде пузатенькую бутылку темного стекла с узнаваемо-желтой этикеткой.
— «…Вдовы Клико благословенное вино в бутылке мерзлой для поэта на стол тотчас принесено… » — неожиданно продекламировал Всеволод Львович, а когда благородное шампанское, окутавшись белоснежной пеной, заиграло за стеклом бокалов, Николай предложил тост за встречу и знакомство, после чего завязалась обычная в таких случаях, светская беседа.
— Скажите, Николай Филиппович, как Вы относитесь к оперному пению?, — спросила госпожа Елена.
— Вряд ли меня можно назвать истинным ценителем, если Вы об этом, но я с удовольствием слушаю хороших исполнителей, таких, например, как сегодня.
— Так Вы были на «Князе Игоре»? А ведь мы только что оттуда?
— Удивительно! Как же я мог не увидеть Вас?
— О! Мы чуть-чуть опоздали – признаюсь, то была моя вина, хотя я обожаю оперу. А Всеволод, увы, не слишком–то ценит высокое искусство — после третьего действия он и вовсе спрятался в буфет, где и обрел гармонию в обществе пары бутылок Бордо. И мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы извлечь оттуда моего несносного братца! Из оперы мы уехали едва ли не первыми – опять же по настоянию этого медведя – ему, видите ли, буфетные закуски на один зуб, и перед отбытием на корабль он желает отобедать по настоящему! И что было делать? Не могла же я бросить в одиночестве любимого братика!
Какое-то время разговор крутился вокруг оперы, неожиданных гастролей звезд Большого театра, и обсуждения их голосов, конечно же великолепных и конечно же бесподобных. Это было вполне светски и Николай, не слишком большой любитель разговоров ни о чем, едва ли не заскучал. Однако вскоре беседа свернула на соответствие оперы своему первоисточнику: «Слову о полку Игореве» и вот это-то было совсем не в традициях пустопорожней болтовни. Елена Васильевна смогла удивить Николая – кто бы мог подумать, что красавица разбирается в писаниях давно минувших лет? Кавторанг вспомнил слова госпожи Антипиной: «Общественное мнение считает, что красавицам ум ни к чему», — и ему стало стыдно. Он про себя полагал, свои взгляды более прогрессивными в сравнении с общепринятыми – а вот поди ж ты.
— Однако, пора мне поторопиться, — изрек Русанов, глядя на большие настенные часы:
— Катер отходит через полчаса.
— А Вы, Николай Филиппович? Вы ведь, наверное, тоже торопитесь на корабль? Можно, я попробую угадать? Наверняка на «Цесаревич»!
— Да почему же на «Цесаревич»? — пробасил Всеволод Львович.
— А потому что мне кажется, что Николай Филиппович воевал, а где же он мог это сделать, если не на «Цесаревиче»? Ведь ты же сам мне рассказывал, что этот броненосец единственный из всего вашего флота воевал с японцами!
— Нет, я не с него — ответил Николай.
— Вы правы, я действительно воевал… на «Бородино».
— Ой! — Елена Васильевна прижала салфетку к губам, со смущением, испугом (но и неподдельным интересом) глядя кавторангу в глаза.
— Простите меня, пожалуйста, мне не следовало говорить об этом.
— Право, Елена Васильевна, не стоит извинений. Все же прошло почти десять лет, и я давно научился смотреть в прошлое без эмоций. Я вспоминаю своих товарищей и сослуживцев с печалью, но без боли. –покривил душой Маштаков:
— Но Вы же тогда…Вы были в плену?!
— Да, я провел в Японии чуть больше года.
— Я… очень рада знакомству, Николай Филиппович. У меня по вторникам и субботам к шести часам собирается небольшое общество, среди которого нередки интересные люди. Буду рада, если Вы к нам присоединитесь.
И как можно было бы не принять такое предложение?
Николай вернулся на «Севастополь» в самом приподнятом настроении, давно он не чувствовал себя так хорошо! Смеркалось, и кавторанг не отказал себе в удовольствии, набив трубку любимым «кэпстеном» и плеснув в бокал коньяк на два пальца: посидеть напротив распахнутого иллюминатора небольшой своей каюты, наслаждаясь ночной свежестью и любуясь тихо разгорающимися на небосводе холодными бриллиантами звезд. Все было хорошо, но пора уже и спать – утро моряка начинается рано.
…но не успел Николай как следует окунуться в сновидения самого приятного толка, как настойчивый шепот верного Кузякова вернул его на грешную землю:
— Вашблагородь, проснитесь! Вставайте, Вашблагородь!
— А? Что? – не сразу сообразил кавторанг спросонья
— Так что передали – всех господ офицеров просят в командирский салон.
Опять вдруг заболела давно не дававшая знать о себе рука, но Николай даже не поморщился – не до того сейчас. Быстро собравшись и широко шагая к командирскому трапу, он не строил иллюзий: существовала одна-единственная причина, по которой офицеров стали подымать заполночь и гнать к командиру. Так что Николай ничуть не удивился, когда совершенно свежий, одетый словно бы на парад командир «Севастополя» Бестужев-Рюмин объявил:
— Господа офицеры! Я должен сообщить вам, что Государь Император приказал произвести мобилизацию Балтийского флота.
Обведя тяжелым взглядом офицерское собрание Анатолий Иванович закончил:
— Это война, господа.