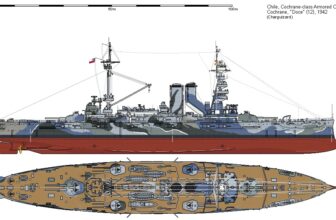Джордж Томпкинс Чеснэй. Битва при Доркинге
Джордж Томпкинс Чеснэй. «Битва при Доркинге»
Что если Германская империя Бисмарка высадит свою армию на берега Викторианской Англии? Не возможно? Полковник Чеснэй думает иначе!
Несколько слов от переводчика =)
Данное произведение отсутствует в рунете на русском языке, во всяком случае, перед публикацией я не нашел в поисковике следов или фрагментов текста на русском языке, кроме английской статьи в Википедии. На Самиздате так же не обнаружен. Имя полковника Джорджа Томпкинса Чеснэйя (1830-1895 гг.) практически не известно современному читателю за исключением нескольких особо просвещенных историков литературы и фантастики в частности. Да и фамилия его невольно вызывает ассоциации с героем чудной пьесы Брендона Томаса «Тетка Чарлея» и не менее чудесной ее экранизации телефильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975). Забавное совпадение, только между тем «Битва при Доркинге» занимает совершенно особенное место в летописи фантастики, как и «Тетя Чарли». Не самое великое, однако достаточно неплохо написанное повествование о вторжении Германской императорской армии на Британские острова в 1871 году стало одно из первых произведений жанра военной (боевой) фантастики на стыке жанров «романа-предупреждения» и классической Альтернативной Истории, которое обратило на себя внимание и оставило заметный след. Публикация этой новеллы, занимающей добрых 29 листов Word (я вас предупредил;)), задала импульс целому направлению в англоязычной фантастике, получившее название «Invasion literature» (англ. «литература вторжения» или так же «роман вторжения»). Между 1871-м и 1914 годами в литературном мире произошел маленький бум историй о вторжениях. Даже Жюль Верн отдал некоторую дань этой моде в мотивах романа «Пятьсот миллионов бегумы», а Герберт Уэллс в «Войне миров» и «Войне в воздухе». Стихи и пьесы об армиях воздушных шаров, вторгающихся в Англию, можно найти во Франции и даже в Америке (причем не только в США) и в Азии. Однако только после того, как пруссаки использовали передовые технологии, такие как артиллерия с казенной частью и железные дороги, чтобы победить французов во франко-прусской войне 1871 года, страх вторжения технологически превосходящего врага стал более реальным.
Предлагаю вниманию читателей и коллег Альтернативных Историков мою скромную, но воодушевленную работу по переводу произведения с английского языка на отечественный, прошу не судить строг за огрехи, которые будут редактироваться).
Полковник Джордж Томпсон Чеснэй. «Битва при Доркинге» (май 1871 г.).
БИТВА ПРИ ДОРКИНГЕ: ВОСПОМИНАНИЯ ВОЛОНТЕРА.
ВЫ просите меня рассказать вам, мои внуки, кое-что о моем участии в великих событиях, произошедших пятьдесят лет назад. Это печальная работа, возвращаться к той горькой странице нашей истории, но вы, возможно, сможете извлечь выгоду в своих новых домах из урока, который она преподает. Для нас в Англии это произошло слишком поздно. И все же у нас было много предупреждений, если бы мы только ими воспользовались. Опасность не застала нас врасплох. Она внезапно обрушился на нас, это правда. Но ее появление было достаточно ясно предзнаменовано, чтобы открыть нам глаза, если бы мы не были сознательно слепы. Мы, англичане, сами виноваты в унижении, которое было нанесено этой стране. «Бесчестная старость»! Я говорю так, когда за ней следует мужское достоинство, опозоренное, как наше. Я заявляю, что даже сейчас, несмотря на то, что прошло пятьдесят лет, я с трудом могу смотреть в глаза молодому человеку, когда думаю, что я один из тех, в юность которых произошла эта деградация Старой Англии, — один из тех, кто предал доверие, возложенное на нас незапятнаными нашими предками.
Какой гордой и счастливой была эта страна пятьдесят лет назад! Свободная торговля действовала уже более четверти века, и казалось, что богатствам, которые она нам приносит, не будет конца. Лондон становился все больше и больше. Не успевали вовремя достроить дома для всех тех богатых людей, которые хотели жить в них. Торговцы, банкиры и дельцы, которые зарабатывали деньги и приезжали со всех концов света, чтобы поселиться там, а также преуспевшие юристы, врачи, инженеры и другие, которые получили свою долю от прибыли. Улицы спускались к Кройдону и Уимблдону, которые мой отец запомнил ещё довольно сельскими местами. И люди говорили, что Кингстон и Рейгейт скоро присоединятся к Лондону. Мы думали, что сможем продолжать строить и развиваться вечно. Верно, даже тогда не было недостатка в бедности. Люди, у которых не было денег, множились так же быстро, как и богатые, и нищета уже начинала превращаться в проблему. Но если ставки были высоки, денег на них было предостаточно. Что же до того, что называлось средним классом, то действительно казалось, что его росту и процветанию не будет предела. Люди в те дни думали, что родить на свет дюжину детей — это само собой разумеющееся — или, как раньше говорили, Провидение послало им такое количество младенцев. И если они не могли всегда выдавать замуж всех дочерей, им удавалось обеспечивать сыновей, поскольку открывались новые возможности во всех профессиях или в правительственных учреждениях, которые постоянно увеличивались. Кроме того, в те дни молодых людей можно было отправить в Индию, в армию или на флот. И даже тогда эмиграция не была редкостью, хотя и не обычным явлением, как сейчас. Учителя, как и все другие профессиональные классы, вели капитальный промысел. Разумеется, они мало учили, но по всей стране появлялись новые школы с четырьмя или пятью сотнями мальчиков.
Что за дураками мы были! Мы всерьез или легкомысленно думали, что все это богатство и процветание были посланы нам Провидением, и не могли иссякнуть. В своей слепоте мы не видели, что являемся просто большой мастерской, перерабатывающей в доходные вещицы сырье со всех концов света. И что, если другие страны перестанут присылать нам сырье для переработки, мы не сможем производить их сами. Правда, в те дни у нас было преимущество в дешевом угле и железе. И если бы мы позаботились не тратить топливо впустую, его могло бы хватить для нас дольше. Но даже тогда были признаки того, что уголь и железо скоро подешевеют в зарубежных странах. В то время как в отношении еды и прочего Англия была не лучше, чем сейчас. Мы были такими богатыми просто потому, что другие народы со всех концов света имели обыкновение отправлять нам свои товары для продажи или производственной обработки. И мы думали, что это будет длиться вечно. И поэтому, возможно, это могло бы продолжаться, если бы мы только приняли надлежащие средства, чтобы сохранить такое положение вещей. Но по своей глупости мы были слишком беспечны даже для того, чтобы обеспечить себе процветание, и после того, как торговля была прекращена, она больше не вернулась.
И все же, если когда-либо у народа было ясное предупреждение, то у нас было. Если бы мы были величайшей торговой страной, наши соседи были ведущими военными державами в Европе. Они также вели вести хорошую торговлю, поскольку это было до того, как их глупый коммунизм (о котором вы услышите, когда станете старше) разорил богатых, не принося пользы бедным, и они были во многих отношениях первой нацией в Европе. Но больше всего они гордились своей армией. И не без причины. Они победили русских, австрийцев и пруссаков в былые годы и считали себя непобедимыми. Хорошо я помню, как император Наполеон III проводил в Париже великий парад во время Великой выставки 1867 года, и как гордился он, демонстрируя свою великолепную гвардию собравшимся королям и принцам. Тем не менее, три года спустя силы, которые так долго считались первыми в Европе, были позорно разбиты, и вся армия взята в плен. Такого поражения никогда не было в мировой истории. И с этим доказательством безрассудства неверия в возможность катастрофы только потому, что она никогда не постигла нас, можно было предположить, что у нас должно было хватить ума понять этот урок. И страна определенно проснулась на какое-то время, и поднялся крик о том, что армию следует реорганизовать и укрепить нашу оборону против огромной силы для внезапных атак, которые, как было видно, были способны нанести другие народы. И правительство выдвинуло план реформирования армии. Это было в лучшем случае компромиссом и полумерой. И, к сожалению, вместо того, чтобы рассматриваться в парламенте как общенациональный план, он был превращен в партийный вопрос, и поэтому провалился. Была и радикальная группа в палате, голоса которой должны были быть обеспечены путем примирения, и которая слепо требовала сокращения вооружений в качестве платы за свою лояльность. Эта партия всегда осуждала военные учреждения как часть целенаправленной политики по уменьшению влияния короны и аристократии. Они не могли понять, что времена полностью изменились, что корона на самом деле не имела власти, и что правительство просто существовало по желанию палаты общин, и что даже парламентское правление начало уступать место настоящей мафиозной организации. В любом случае министерство, сбитое с толку со всех сторон, постепенно отказалось от всех сильных сторон плана, к которому они относились бездушно. Дело не в том, что денег не хватало, лишь бы они были потрачены правильно. Армия стоила достаточно и более чем достаточно, чтобы дать нам надлежащую защиту, и вооруженных людей было достаточно, и их можно было бы сэкономить, если бы они были прилично организованы. Мы потерпели неудачу в плане организации и предусмотрительности, потому что наши правители искренне не верили в необходимость подготовки. По их словам, флот и Ла-Манш были достаточной защитой. Так что реформа армии была отложена до более удобного времени, а ополчение и добровольцы остались необученными, как и прежде, потому что вызов их на учения «помешал бы промышленности страны». Разумеется, мы могли бы отказаться от некоторых видов промышленности того времени и при этом быть более занятыми, чем сейчас. Но зачем рассказывать сказку, которую вы уже так часто слышали? Нация, хотя и обеспокоенная, была введена в заблуждение ложной безопасностью, которую, как якобы, чувствовали ее лидеры. Предупреждение, данное бедствиями, которые настигли Францию в 1870-м году, было оставлено без внимания. У нас не было бы даже проблем с размещением наших арсеналов в безопасном месте или защитой столицы от неожиданностей, хотя стоимость этого не была бы такой большой, как упущенная выгода из-за национального богатства. Французы доверяли своей армии и ее репутации, мы — нашему флоту. И в каждом случае результатом этой слепой уверенности была катастрофа, которую наши предки в своей тяжелейшей борьбе не могли даже представить.
Мне вряд ли нужно рассказывать вам, как произошел крах. Во-первых, восстание в Индии отвлекло часть нашей небольшой армии. Затем возникли трудности с Америкой, которые угрожали годами, и мы отправили десять тысяч человек на защиту Канады — горстка, которая не способствовала укреплению реальной обороны этой страны, но вызвала у американцев непреодолимое искушение попробовать взять их в плен, тем более что в контингент входили три гвардейских батальона. Таким образом, регулярная армия у себя дома была даже меньше, чем обычно, и почти половина ее находилась в Ирландии, чтобы сдерживать обсуждаемое фенийское вторжение, устраиваемое на Западе. Что еще хуже — хотя я не знаю, что это действительно имело бы значение, как все сложилось, — флот был рассредоточен за границу: одни корабли для охраны Вест-Индии, другие для проверки каперства в Китайских морях, а большая часть — для защиты наших колонии на северном тихоокеанском побережье Америки, где мы с невероятной глупостью продолжали сохранять владения, которые мы никак не могли защитить. Сорок лет назад Америка не была такой великой державой, как сейчас. Но для нас пытаться удержать территорию на ее берегах, добраться до которой можно было, только обогнув мыс Горн, было столь же абсурдно, как если бы она пыталась захватить остров Мэн до обретения Ирландией независимости. Сейчас мы видим это достаточно ясно, но тогда мы все были слепы.
Именно в то время, когда мы были в этом состоянии, с нашими кораблями рассеянными по всему миру и нашей небольшой армией, разделенной на отряды, Тайный договор был опубликован, а Голландия и Дания были аннексированы. Сейчас люди говорят, что мы могли бы избежать обрушившихся на нас неприятностей, если бы мы во всяком случае хранили молчание, пока не разрешились другие наши трудности. Но англичане всегда были импульсивными людьми: вся страна кипела от негодования, а правительство, подстрекаемое прессой и плывущее по течению, объявило войну. Раньше у нас всегда были неприятности, и мы верили, что наша старая удача и отвага как-то нас вытащат.
Потом, конечно, по всей стране была суета и спешка. Не то чтобы призыв армейских резервов вызвал большой переполох, потому что я думаю, что их было всего около 5000, и очень многих из них не удалось найти, когда пришло время; но вербовка шла по всей стране, с невероятно высокой наградой, еще 50 000 человек были выбраны в армию. Затем был принят законопроект о добавлении в ополчение 55 500 человек. Я не знаю, почему круглое число не было установлено, но премьер-министр сказал, что это точная квота, которую хотел поставить оборону страны на прочную основу. Потом началось судостроение! Броненосцы, курьерские катера, канонерские лодки, мониторы — каждая строительная верфь в стране получила свою работу, и они предлагали по десять шиллингов в день любому, кто умел вонзить заклепку. Вы можете предположить, что это не улучшило набор персонала. Я также помню, что в палате общин возникла ссора по поводу того, следует ли привлекать ремесленников к участию в голосовании, поскольку они были так сильно востребованы, и я думаю, что они получили исключение. Это отправило числа во дворы. И если бы у нас была пара лет на подготовку вместо пары недель, я полагаю, мы бы справились очень хорошо.
Объявление войны было последовало в понедельник, и через несколько часов мы получили первое представление о тех мерах, которые враг предпринял к событию, которое он действительно вызвал, хотя фактическое объявление было сделано нами. Благочестивый призыв к Богу битв, которого, как говорили, мы разбудили, был передан телеграфом. И с этого момента все сообщение с севером Европы было прервано. Наши посольства и миссии были упакованы за час до прибытия, и мы словно внезапно вернулись в средневековье. На следующее утро, когда во всем Лондоне не было никаких новостей, а просто намекали на случившееся, во всем Лондоне появилось немое удивление, и это было одним из самых поразительных моментов в этой войне сюрпризов. Но все было улажено заранее. Мы не должны были удивляться, потому что мы видели, как та же самая Сила всего несколько месяцев назад двинула вниз полмиллиона человек за несколько дней, чтобы завоевать величайшую военную державу в Европе, с не большей возней, чем наше военное министерство раньше осуществляло транспортировку бригады из Олдершота в Брайтон. И это тоже без тех союзников, которые у него были сейчас. То, что произошло сейчас, в действительности было ничуть не лучше. Но люди этой страны не могли заставить себя поверить, что то, что никогда раньше не происходило с Англией, могло когда-либо случиться. Как и наши соседи, мы стали мудрыми, когда было уже слишком поздно.
Конечно, газеты не замедлили получать новости — даже могущественная организация, созданная для работы, не могла закрыть доступ к специальному корреспонденту. Через несколько дней, хотя телеграфы и железные дороги были перехвачены по всей Европе, основные факты стали просачиваться наружу. Было наложено эмбарго на все судоходства в каждом порту от Балтики до Остенде. Флот двух великих держав выдвинулся, и предполагалось, что он был собран в большой северной гавани, и войска спешили на борт всех пароходов, задержанных в этих местах, большинство из которых были британскими судами. Было ясно, что вторжение было задумано. Даже тогда мы могли бы быть спасены, если бы флот был готов. Форты, охранявшие флотилию, были, возможно, слишком сильны для судоходства. Но пара броненосцев, с которыми обращались так, как британские моряки знали, как их использовать, могла уничтожить или повредить часть транспорта и задержать экспедицию, дав нам то, что мы хотели, время. Но затем лучшая часть флота была заманена в Дарданеллы, а то, что осталось от эскадры Ла-Манша, приглядывало за фенийскими флибустьерами к западу от Ирландии. Итак, прошло десять дней до того, как флот был собран, и к тому времени стало ясно, что вражеские приготовления были слишком далеко, чтобы их можно было остановить путем государственного переворота. Информация, которая поступала в основном через Италию, поступала медленно и была более или менее расплывчатой и неопределенной; но было известно то, что по крайней мере пара сотен тысяч человек были погружены или готовы к отправке на борт кораблей, и что флотилия охраняется большим количеством броненосцев, чем мы могли тогда собрать. Я полагаю, что неуверенность в том, в какую точку нацелится противник для высадки, и боязнь, что он даст нам путь, держали флот в течение нескольких дней в Даунсе. Но только во вторник, две недели после объявления войны, он снялся с якоря и отплыл в Северное море. Конечно, вы читали о визите королевы к флоту накануне и о том, как она обогнула корабли на своей яхте и поднялась на борт флагманского корабля, чтобы проститься с адмиралом. Как, охваченная эмоциями, она сказала ему, что безопасность страны находится на его попечении. Вы также помните ответ доблестного старого офицера и то, как все корабельные верфи были укомплектованы людьми, и как горячо ликовали смолы, когда ее величество плыла на веслах. Отчет, конечно, был телеграфирован в Лондон, и приподнятое настроение флота заразило весь город. Я был у станции Чаринг-Кросс, когда прибыл специальный поезд королевы из Дувра, и по аплодисментам и крикам, которые приветствовали ее величество, когда она уезжала, можно было предположить, что мы уже одержали большую победу. Ведущий журнал, который активно участвовал в компании сокращения армии, проведенном во время сессии, и последние две недели нервничал и подавлял голос, предлагая всевозможные компромиссы как способ выхода из войны, вышел в свет. На следующее утро в очень ликующей форме. «Охваченные паникой исследователи, — говорилось в нем, — спрашивают теперь, где же средства защиты от вторжения? Мы отвечаем, что вторжения никогда не будет. Британский флот, укомплектованный британскими моряками, чье мужество и энтузиазм отражаются в людях этой страны, уже находится на пути к встрече с самонадеянным противником. Проблема соперничества между британскими кораблями и кораблями любой другой страны при любых равных шансах никогда не может вызывать сомнений. Англия со спокойной уверенностью ожидает выхода предстоящее действие».
Таковы были слова передовицы, и все мы так почувствовали. Во вторник, 10 августа, флот вышел из Даунса. С собой требовалось проложить подводный кабель по мере продвижения, чтобы поддерживать непрерывную связь, а газеты публиковали специальные выпуски каждые несколько минут с последними новостями. Это было впервые, и этот подвиг был воспринят как добрый знак. Я не могу сказать, правда ли, что Адмиралтейство использовало этот трос, чтобы посылать противоречивые приказы, которые лишили адмирала командования. Но все, что адмирал послал в ответ, было несколькими сообщениями самого краткого характера, которые ни Адмиралтейство, ни кто-либо другой не смогли бы использовать. Такой корабль отправился на разведку. Другой воссоединился — флот находился в такой-то широте. Так продолжалось до утра четверга. Я как обычно только приехал в город поездом и шел к себе в офис, когда газетчики начали кричать: «Новая редакция — вражеский флот на виду!» Вы можете себе представить сцену в Лондоне! В банках бизнес продолжался, потому что векселя созрели, хотя за независимость страны боролись, так сказать, на наших глазах, а спекулянты были достаточно активны. Но даже с людьми, которые зарабатывали и теряли свои состояния, интерес к флоту превосходил все остальное. Мужчины, которые пришли заплатить или снять деньги, останавливались, чтобы показать последний бюллетень кассиру. Что касается улицы, то толпа, останавливающаяся, чтобы купить и почитать газеты, вряд ли могла уживаться. В то время как в каждом доме или офисе люди беспокойно сидели в общей комнате, словно собираясь вместе для компании, каждые несколько минут посылая кого-нибудь из своего числа, чтобы получить последний выпуск. По крайней мере, это то, что произошло в нашем офисе. Но сидеть на месте было так же невозможно, как и что-то делать, и большинство из нас вышло и бродило среди толпы, чувствуя, что новости передаются быстрее. Какими бы плохими ни были времена, я думаю, что тошнотворное ожидание того дня и последовавший за ним шок были едва ли не самым худшим, что мы пережили. Было около десяти часов, когда пришла первая телеграмма; через час телеграмма сообщила, что адмирал дал сигнал к построению боевой линии, а вскоре после этого был отдан приказ атаковать врага и вступать в бой. В двенадцать было объявлено: «Флот открыл огонь примерно в трех милях с подветренной стороны от нас», то есть по кораблю с тросом. До сих пор все было ожиданием, затем появился первый знак бедствия. «Броненосец взорван» — «вражеские торпеды наносят большой урон» — «флагманский корабль заложен на борт противника» — «флагманский корабль, кажется, тонет» — «вице-адмирал подал сигнал» — там кабель замолчал, и, как вы знаете, мы ничего не слышали до тех пор, пока два дня спустя одинокий броненосец, спасшийся от бедствия, не устремился в Портсмут.
Затем всплыла вся история — как наши моряки, как всегда храбрые, пытались сблизиться с противником; как последние уклонились от столкновения с близкого расстояния и, уклонившись, оставили позади себя смертоносные торпеды, которые один за другим отправили наши корабли ко дну. Все это произошло почти за несколько минут. Правительство, похоже, получило предупреждения об этом изобретении, но для нации этот ошеломляющий удар был совершенно неожиданным. В тот четверг мне пришлось пораньше вернуться домой на полковые учения, но было невозможно бездействовать, поэтому, когда они закончились, я снова отправился в город, и, дождавшись новостей, которые так и не пришли, пропустил полуночный поезд, Я шел домой. Это была жаркая знойная ночь, и я приехал только на рассвете. В городе было тихо — затишье перед бурей. Когда я вошел с ключом от замка и тихонько поднялся наверх в свою комнату, чтобы не разбудить спящих домочадцев, я не мог не контрастировать с безмятежностью утра — ни звука, нарушающего тишину, кроме пения птиц в саду — со страстным раскаянием и негодованием, которые вспыхнули вместе с днем. Возможно, обитатели комнат бодрствовали не меньше меня; но дом в своей тишине был таким же, каким был раньше, когда я возвращался домой один с балов или вечеринок в счастливые прошедшие дни. Несмотря на усталость, я не мог заснуть, поэтому спустился к реке и искупался. По возвращении обнаружил, что все собираются к раннему завтраку. Это была печальная семья, хотя бремя, лежавшее на каждом, было отчасти невидимым. Мой отец сомневался, сможет ли его фирма продержаться весь день. Моя мать, ее горе из-за моего брата, теперь с его полком на побережье, уже превышающее то, что она чувствовала из-за общественного несчастья, сошло, хотя и едва в состоянии покинуть свою комнату. Моя сестра Клара была хуже всего, потому что она не могла не попытаться скрыть свой особый интерес к флоту. Хотя мы все догадались, что ее сердце отдано молодому лейтенанту на флагманском корабле — первом судне, которое затонуло, — нельзя было сказать ни о безответной любви, ни выразить сочувствие, которое мы испытывали к бедной девушке. Этот завтрак, последняя трапеза, которую мы когда-либо ели вместе, вскоре закончился, и мы с отцом поехали в город ранним поездом и прибыли туда как раз в тот момент, когда из Портсмута было телеграфировано роковое сообщение о гибели флота.
Паника и волнение того дня — как фунт упал до 35. Набег на берег и его остановка; падение половины домов в городе; как правительство издало уведомление о приостановлении оплаты наличными и выставлении счетов — эта последняя мера предосторожности была слишком запоздалой для большинства фирм, в том числе Graham & Co., которые прекратили выплаты, как только мой отец пришел в офис; призыв к оружию и единодушный ответ страны — все это история, которую мне не нужно повторять. Вы хотите услышать о моей доле в бизнесе того времени. Что ж, добровольчество безмерно увеличилось с того дня, когда была объявлена война, и наш полк увеличился за день или два с его обычной численности в 600 человек до почти 1000 человек. Но запас винтовок был недостаточным. Нам обещали дополнительную поставку через несколько дней, но мы так и не получили. И пока их ждали, полк пришлось разделить на две части: новобранцы утром тренировались с ружьями, а вечером мы, старички. Неудачи и прекращение работы в эту черную пятницу лишили работы огромное количество молодых людей, и к следующему дню мы набрали до 1400 человек; но что толку от всех этих людей без оружия? В субботу было объявлено, что много гладкоствольных мушкетов, хранящихся в Тауэре, будет передано полкам, претендующим на них, и среди добровольцев для них происходили регулярные схватки, и наши люди заполучили пару сотен ружей. Но вы могли бы почти с таким же успехом научиться стрелковому делу с помощью метлы, как и со старой коричневой Бесс; к тому же в стране не было гладкоствольных боеприпасов. Была открыта общенациональная подписка на производство винтовок в Бирмингеме, объем которой составил пару миллионов за два дня, но, как и все остальное, это произошло слишком поздно. Возвращаясь к добровольцам: две недели назад в Дувре, Брайтоне, Харвиче и других местах были сформированы лагеря регулярных войск и ополченцев, и штабы большинства добровольческих полков были прикреплены к тому или иному из них, а добровольцы сами ходили на учения изо дня в день, сколько у них было времени, а в пятницу вышел приказ, что они должны быть там постоянно.
Но столичных добровольцев по-прежнему держали в Лондоне в качестве своего рода резерва, пока не было видно, в какой момент произойдет вторжение. Нас всех отправили в бригады и дивизии. Наша бригада состояла из 4-го Королевского ополчения Суррея, 1-го административного батальона Суррея, как его называли, в Клэпхэме, 7-го полка добровольцев Суррея в Саутварке и нас самих; но только наш батальон и ополчение были расквартированы в одном месте, и вся бригада провела вместе два или три дня вместе на бригадных учениях в парке Буши перед маршем. Наш бригадир принадлежал к линейному полку в Ирландии и не вступил в него до самого утра, когда пришел приказ. Между тем, в предварительные две недели командовал полковник милиции. Но хотя мы, волонтеры, были заняты учениями и приготовлениями, у тех из нас, кто, как и я, работал в правительственных учреждениях, офисной работы, как вы можете догадаться, было более чем достаточно. Клеркам-волонтерам разрешили покинуть офис в четыре часа, но остальных жестко держали за столом до поздней ночи. Приказы лорд-лейтенантам, магистратам, уведомления, все меры по очистке рабочих домов для больниц — этим и сотней других вещей нужно было управлять в нашем офисе, и в помещении было столько же суеты, как и снаружи. К счастью, мы были так заняты — надо было пожалеть тех, кому нечего было делать. А в воскресенье (это было 15 августа) работа продолжалась в обычном режиме. У нас был ранний парад и учения, и я поехал в город к девятичасовому поезду в своей форме, взяв с собой винтовку на случай аварии и, к счастью, тоже, как оказалось, пальто из макинтоша. Когда я добрался до Ватерлоо, ходили всевозможные слухи. У берегов был замечен флот, и некоторые из курьерских катеров, которые парили у берегов, принесли новости о большой флотилии у Харвича, но с берега ничего не было видно из-за туманной погоды. Легкие корабли противника захватили и потопили все рыбацкие лодки, которые они могли поймать, чтобы известия об их местонахождении не дошла до нас; но некоторые бежали ночью и сообщили, что фрегат «Инконстант», возвращавшийся из Северной Америки, не зная о том, что произошло, вошел прямо во флот противника и был захвачен. В городе все войска готовились к выступлению; Охранники Веллингтонских казарм были под ружьем, а их багажные фургоны были упакованы и выстроены на Птичьей улице. Обычная охрана конной гвардии была снята, и санитары и штабные офицеры ходили туда-сюда. Все это я увидел по дороге в свой офис, где я работал до двенадцати часов, а затем, почувствовав голод после раннего завтрака, я пошел через Парламент-стрит в свой клуб, чтобы пообедать. В кофейне было с полдюжины мужчин, никого из которых я не знал; но через минуту или две в ужасную поспешность вошел Дэнверс из казначейства. От него я получил первые достоверные новости, которые я получил в тот день. Противник высадился в районе Харвича, и столичным полкам было приказано там подкрепить войска, уже собранные в этом районе; его полк должен был выступить в час дня, и он пришел, чтобы что-нибудь поесть перед стартом. Мы наскоро позавтракали и уже выходили из клуба, как в холл вбежал посыльный из казначейства.
«О, мистер Дэнверс, — сказал он, — я пришел искать вас, сэр! Секретарь говорит, что все джентльмены разыскиваются в офисе, и что вы не должны просить никого из вас идти с полками. » «Дьявол!» воскликнул Дэнверс. «Вы знаете, распространяется ли этот приказ на все государственные учреждения? — спросил я. «Я не знаю, — сказал мужчина, — но я верю, что это так. Я знаю, что посыльные ходят по всем клубам и барам в поисках джентльменов; секретарь говорит, что это совершенно невозможно, чтобы кто-то мог быть пощадил, сейчас так много работы, есть приказ отправить наши пластинки в Бирмингем сегодня вечером ». Я не стал ждать, чтобы выразить соболезнования Дэнверсу, но, просто взглянув на Уайтхолл, чтобы убедиться, не преследует ли кто-нибудь из наших посыльных, я побежал изо всех сил к Вестминстерскому мосту и, таким образом, к вокзалу Ватерлоо.
Место совершенно изменило свой облик с утра. Регулярное движение поездов прекратилось, и станция, и подходы к ней были заполнены войсками, в том числе гвардейцами и артиллерией. Все было очень аккуратно: люди сложили оружие и стояли группами. Не было никаких признаков приподнятого настроения или энтузиазма. Дело стало слишком серьезным. На лицах каждого человека отражалось общее ощущение, что мы пренебрегли данными нам предупреждениями и что теперь опасность, которую так долго высмеивали как невозможную и абсурдную, действительно пришла и застала нас неподготовленными. Но солдаты, если они были серьезными, выглядели решительными, как люди, которые собирались выполнить свой долг, чего бы ни случилось. Поезд, полный гвардейцев, как раз отправлялся в Гилфорд. Мне сказали, что он остановится в Сурбитоне, и вместе с несколькими другими добровольцами, спешившими, как и я, присоединиться к нашему полку, заняли в нем место. Мы приехали не сразу, потому что полк шел из Кингстона на станцию. Целью нашей бригады было восточное побережье. На разъезде стояли пустые экипажи, и наш полк должен был идти первым. Проводить его собралась большая толпа, в том числе новобранцы, присоединившиеся за последние две недели и составившие, безусловно, большую часть нашей силы. Они должны были остаться, и определенно уже сильно мешали; поскольку все офицеры и сержанты принадлежали к активной части, дисциплинировать среди них было некому, и они собирались вокруг нас, нарушая ряды и затрудняя посадку в поезд. Здесь я впервые увидел нашего нового бригадира. Он был похож на солдата и, несомненно, знал свой долг, но он казался новым для добровольцев и, похоже, не знал, как обращаться с джентльменами рядовыми. Мне очень хотелось забежать домой за моими шинелью и ранцем, которые я купил несколько дней назад, но боялся, что меня бросят. Добродушный новобранец вызвался принести их для меня, но он так и не вернулся до того, как мы тронулись. И я начал кампанию с набором, состоящим из макинтоша и небольшого мешочка с табаком.
В поезде было очень тесно. Помимо десяти сидящих мужчин, в каждом купе стояло по трое или четверо, и день был близок и душен. На пути было так много остановок, что нам потребовалось почти полтора часа, чтобы добраться до Ватерлоо. Мы прибыли туда между пятью и шестью часами вечера, и было почти семь, прежде чем мы подошли к станции Шордич. Все место было заполнено припасами и боеприпасами для отправки на восток, поэтому мы сложили оружие на улице и рассыпались за едой и питьем, в которых большинство из нас нуждалось, особенно в последнем. Некоторые уже чувствовали себя хуже из-за жары и давки. Я как раз заходил в паб с Трэверсом, куда кто-то должен подъехать, кроме его хорошенькой жены! Большинство наших друзей и возлюбленных попрощались на станции Сурбитон, но она подъехала по дороге в его карете, привозя их маленького мальчика, чтобы последний раз взглянуть на папу. Она также принесла его ранец и шинель и, что было еще более приятно, корзину с жареной курицей, говяжьим языком, хлебом с маслом и печеньем, а также парой бутылок кларета — бесценную роскошь, которую по их настойчивым требованиям я разделил вместе с ним. Между тем шли часы. Подошел 4-й Суррейский добровольческий полк, который прошел весь путь от Кингстона, а также другие отряды добровольцев. Станция была частично очищена от загромождавших ее складов. Было отправлено несколько артиллерийских орудий, два полка ополчения и линейный батальон, и подошла наша очередь стартовать, и для нас были выстроены длинные линии экипажей, но мы все равно остались на улице. Вам может понравиться сцена. Казалось, в Лондоне было столько же людей, сколько и прежде, и мы едва могли двигаться из-за толпы зрителей — ребят, торгующих фруктами и «волонтерскими удобствами», мальчишки газетчики и так далее, не говоря уже о кэбах и омнибусах. А санитары и штабные офицеры постоянно подъезжали с сообщениями. Многие из ополченцев и некоторые из наших однополчан тоже выпили более, чем достаточно. Возможно, вместе с жарким августовским солнцем это сказалось натощак. Так или иначе, они стали очень шумными. Грохот, грязь и жара были неописуемыми. Итак, вечер продолжался, и вся информация, которую наши офицеры могли получить от бригадного генерала, который, казалось, действовал под началом другого генерала, заключалась в том, что был получен приказ стоять твердо. Постепенно улица становилась все тише и прохладнее. Бригадный генерал, который, в качестве примера, оставался несколько часов, не выходя из седла, вытащил стул из соседнего магазина и сел на него, кивая. Большинство мужчин лежали или сидели на тротуаре — некоторые спали, некоторые курили. Напрасно Трэверс умолял жену вернуться домой. Она заявила, что, зайдя так далеко, останется и увидит нас в последнюю очередь. Карету отослали за переулок, так как она блокировала дорогу. Поэтому он сел на пороге, она рядом с ним на ранце. Маленький Артур, который был в восторге от суеты и униформы, оставался в приподнятом настроении, наконец очень рассердился и, в конце концов, заплакал, уснув на руках у отца. Его золотые волосы и маленькая рука с ямочкой свисали через плечо. Так продолжались утомительные часы, пока вдруг не прозвучало собрание, и мы все вздрогнули. Нам предстояло вернуться в Ватерлоо. Высадка на востоке была всего лишь уловкой — так ходили слухи — настоящая атака была на юге. Все казалось лучше, чем нерешительность и промедление, и, хотя мы и устали, обратный марш был с радостью встречен. Миссис Трэверс, которая заставила нас взять с собой остатки завтрака, мы ушли искать ее экипаж. Маленький Артур, который снова проснулся, но очень добрый и тихий, у нее на руках.
Мы добрались до Ватерлоо почти к полуночи, и с некоторыми задержками мы отправились снова. С севера прибыло несколько добровольческих и ополченческих полков. Станция и все подходы к ней были забиты людьми, и поезда отправлялись прочь так быстро, как только могли. Все это время с момента первого объявления до нас не доходило никаких новостей. Но возбужденное тогда чувство прошло под влиянием усталости и недостатка сна, и большинство из нас задремали, как только мы двинулись в путь. Во всяком случае, я это сделал, и меня разбудил поезд, который остановился в Лезерхеде. В город возвращался эшелон, и некоторые люди в нем привозили новости с побережья. Со своей стороны поезда мы не могли слышать, что они говорили, но слух передавался от одного вагона к другому. Враг высадился в Уортинге. Их позиция была атакована войсками из лагеря близ Брайтона, и утром бой возобновится. Волонтеры вели себя очень хорошо. Это была вся информация, которую мы могли получить. Итак, вторжение наконец наступило. Во всяком случае, из сказанного было ясно, что противник еще не отброшен, и мы должны успеть, скорее всего, принять участие в обороне.
На рассвете поезд въехал в Доркинг, потому что на пути было множество остановок; и здесь его долго останавливали, и нам сказали выйти и потянуться — приказ с радостью откликнулся, потому что всю ночь мы были очень плотно упакованы. Большинство из нас тоже воспользовалось возможностью приготовить ранний завтрак из еды, которую мы привезли из Шордича. У меня были останки курицы от миссис Трэверс и немного хлеба, завернутые в мой макинтош, и я поделился им с одним или двумя менее предусмотрительными товарищами. С места остановки мы могли видеть, что линия заблокирована поездами сзади и сзади. Было, должно быть, около восьми часов, когда мы получили приказ снова занять свои места, и поезд медленно двинулся в сторону Хоршэма. Ходили слухи, что нужно было занять перекресток Хоршэм-Джанкшн; но около десяти часов, когда мы остановились на небольшой станции в нескольких милях от нее, пришел приказ покинуть поезд, и наша бригада выстроилась колонной на шоссе. Позади нас была какая-то полевая артиллерия; и далее, как сказал нам штабной офицер, другая бригада, которая должна была составить дивизию с нашей. После нескольких задержек линия начала двигаться, но не вперед; наш путь лежал на северо-запад, и в моей голове мелькнуло какое-то подозрение по поводу положения вещей. Хоршем уже был занят авангардом противника, и мы должны были отступить к Лейт-Коммон и занять позицию, угрожающую его флангу, если он продвинется либо к Гилфорду, либо к Доркингу. Это вскоре подтвердилось тем, что полковник сказал бригадиром и перешел по служебной лестнице. Итолько сейчас, впервые, на легком южном ветру донесся гул артиллерии. Примерно через час стрельба прекратилась. Что это значило? Мы не могли сказать. Тем временем наш марш продолжался. День был очень близким и душным, и облака пыли, поднимавшиеся у наших ног, почти душили нас. Я накопил вчерашнюю бутылку с содовой водой; но это длилось недолго, потому что было много ртов, с которыми можно было разделить это, и жажда вскоре стала такой же сильной, как и прежде. Некоторые из полка упали от обморока, и мы часто останавливались, чтобы отдохнуть и подпустить отставших. Наконец мы достигли вершины Лейт-Хилла. Это поразительное место, самая высокая точка на юге Англии. Вид с него великолепный, и чудеснее всего выглядела страна в этот летний день, хотя трава была коричневой от долгой засухи. Было большим облегчением выбраться с пыльной дороги на просторную дорогу, а на вершине холма дул освежающий ветерок. Теперь мы впервые увидели всю нашу дивизию. Наш собственный полк насчитывал не более 500 человек, поскольку в нем было большое количество чиновников, задержанных, как и Дэнверс, для службы в городе, а другие были ненамного больше, но полк милиции был очень силен, а вся дивизия, как мне сказали, насчитывала около 5000 человек. Мы могли видеть и другие войска в составе нашей дивизии, и мы могли насчитать пару полевых батарей Королевской артиллерии, помимо некоторых тяжелых орудий, принадлежащих, по-видимому, добровольцам, запряженным на повозках. Прохладный воздух, чувство числа и очевидная сила занимаемой нами позиции подняли нам настроение, которое, я не стыжусь сказать, все утро находилось в подавленном состоянии. Дело не в том, что мы не стремились сблизиться с врагом, а в том, что контрмарш и остановка зловеще свидетельствовали о колебаниях целей у тех, кто руководил делами. Здесь за два дня захватчики прошли более двадцати миль вглубь суши, и ничего не было сделано, чтобы их остановить. И невежество, в котором мы, добровольцы, начиная с полковника и ниже, сдерживали свои передвижения, наполняло нас тревогой. Мы не могли не представить себе, как противник твердо выполняет свой хорошо продуманный план нападения и противопоставляет его нашей собственной неуверенности в цели. Сама тишина, с которой, казалось, велось его продвижение, наполнила нас таинственным трепетом. Между тем день шёл, и мы потеряли сознание от голода, потому что с рассвета ничего не ели. Продовольствия не было, и никаких следов комиссариатов не было. Кажется, когда мы были на станции Ватерлоо, там был составлен целый поезд с провизией, и наш полковник предложил снять один из грузовиков и присоединить к нашему поезду, чтобы у нас было под рукой немного еды. Но главный офицер, помощник контролера, я думаю, его вызвали — этот отдел управления был новомодным делом, которое в конечном итоге причинило нам почти такой же вред, как и противник, — сказал, что его приказ состоял в том, чтобы держать все склады вместе, и что он не может выдать ни одного без разрешения начальника своего отдела. Так что нам пришлось обойтись без него. Те, кто курили табак, задымили — действительно, в таких обстоятельствах нет утешения, как трубка.
Полк милиции, как я узнал потом, имел в ранцах двухдневную провизию, это у нас, добровольцев, не было никаких ранцев, и нечего было в них положить. Должен вам сказать, что все это время, пока мы лежали на траве, сложив руки, генерал с бригадирами и штабом медленно ехал от точки к точке края холма, глядя в зеркало. в сторону южной долины. Санитары и штабные офицеры приходили постоянно, и около трех часов по дороге, ведущей к Хоршэму, прибыла небольшая группа улан и полк йоменов, которые, по-видимому, вышли заранее, а теперь подошли к нему. короткий путь перед нами в колонне, обращенной на юг. Могли ли они увидеть что-нибудь впереди, я не мог сказать, потому что мы сами находились за гребнем холма и поэтому не могли смотреть в долину внизу; но вскоре после этого прозвучала сборка. Генерал вызвал командующих и получил краткие инструкции; и колонна снова двинулась в сторону Лондона, ополчение на этот раз шло последней в нашей бригаде. Слух о цели этого контрмарша вскоре распространился по рядам. Враг не собирался атаковать нас здесь, но пытался повернуть позицию с обеих сторон, одна колонна указывала на Рейгейт, а другая — на Олдершота; и поэтому мы должны отступить и занять позицию в Доркинге. Линия большого мелового хребта должна была быть защищена. Большая часть войск концентрировалась в Гилфорде, другая — в Рейгейте, и мы должны найти поддержку в Доркинге. На этих позициях можно было ожидать врага. Таким, насколько мы, рядовые, могли понять факты, должен был быть план операции. Итак, мы двинулись вниз с холма. С одного или двух пунктов мы могли мельком увидеть в долине внизу железную дорогу, ведущую из Доркинга в Хоршем. Тут и там над ней работали люди в красном. Кто-то сказал, что это королевские инженеры, нарушая строй. Мы двинулись дальше. Пыль казалась хуже, чем когда-либо.
В одной деревне, через которую мы проезжали — теперь я забыл название — на лужайке был насос. Здесь мы остановились и хорошо выпили; Проходя мимо большой фермы, жена фермера и две или три ее служанки стояли у ворот и протягивали нам кусочки хлеба и сыра из нескольких корзин. Я получил немного, но, должно быть, скоро дно корзины хорошей женщины было достигнуто. Больше ничего нельзя было получить, пока мы не дойдем до Доркинга около шести часов; действительно, большинство фермерских домов уже казались заброшенными. Прибыв туда, нас остановили на улице, а прямо напротив находилась булочная. Наши товарищи просили уйти сначала по двое и по трое, чтобы зайти и купить несколько буханок, но вскоре другие стали ломаться и толпиться в лавку, и наконец началась обычная драка. Если бы существовал какой-либо порядок и было бы организовано регулярное распределение, они, несомненно, были бы достаточно стабильными, но голод делает людей эгоистичными. Каждый чувствовал, что его остановка не принесет никакой пользы — он просто потеряет свою долю. Так что все закончилось тем, что к драке присоединился почти весь полк, и за пару минут магазин был очищен. В то время как что касается оплаты, вы не могли сунуть руку в карман для толкотни. Полковник тщетно пытался остановить скандал. Некоторые офицеры были так же плохи, как и простые мужчины. В этот момент мимо проехал штабной офицер. Он с трудом уступал дорогу толпе, и его довольно грубо толкали, и он страстно призывал нас вести себя прилично, как солдаты, а не как сверток грубого оружия. «Ой, губернатор, — сказал Дик Уэйк, — вы не собираетесь вставать между бедной бухтой и его жратвой!». Уэйк был опытным адвокатом и, как мы говорили в те дни, дерзким молодым парнем, хотя и достаточно добродушным. При этой речи, за которой последовали еще несколько подобных замечаний со стороны окружающих, штабной офицер еще больше рассердился. «Санитар, — крикнул он ехавшему за ним улану, — отведите этого человека к проректору. Что до вас, сэр, — сказал он, обращаясь к нашему полковнику, который сидел на своем коне и молчал от удивления, — если вы не хотите, чтобы некоторые из ваших людей были расстреляны раньше времени, вам и вашим драгоценным офицерам лучше держать эту чернь в лучшем порядке». Бедняга Дик, который выглядел достаточно удрученным, наверняка был бы уведен в хвост сержантской лошади, если бы бригадир не подошел, не устроил дела и не повел нас к холму за городом. Этот инцидент рассердил и удручил нас. Мы были раздражены тем, что с нами так грубо разговаривали: в то же время мы чувствовали, что заслужили это, и нам было стыдно за проступок. К тому же мы потеряли доверие к нашему полковнику из-за того несчастного человека, который он сыграл в этом деле. Он был молодец, полковник, а на следующий день показал себя храбрым; но он слишком стремился стать популярным и совсем не понимал, как командовать.
В заключение: — Едва мы достигли холма над городом, который, как нам сказали, должен был стать нашим биваком на ночь, как пришло долгожданное известие, что на станцию прибыл поезд с едой; но тележек для перевозки вещей не было, поэтому группа усталых людей спустилась вниз и принесла нам на руках припасы: булочки, бочку рома, пакеты с чаем и куски мяса — изобилие для всех; но в полку не было ни чайника, ни котелка, и мы не могли есть сырое мясо. Не лучше было полковнику и офицерам. Они договорились о регулярном беспорядке с посудой, обслуживающим персоналом и всем комплектом, но заведение так и не появилось, и что с ним стало, никто не знал. Некоторых из нас отправили обратно в город, чтобы посмотреть, что мы можем раздобыть для приготовления пищи. Мы обнаружили улицу, полную артиллерии, обозов и конных офицеров, а также добровольцев, делающих покупки, как и мы; и все дома оказались занятыми войсками. Нам удалось достать несколько чайников и кастрюль, а я купил себе кожаную сумку с ремнем через плечо, которая впоследствии оказалась очень кстати. Нагруженные таким образом, мы поплелись обратно в наш лагерь на холме, наполнив котлы грязной водой из небольшого ручья, протекающего между холмом и городом, потому что наверху другой воды не было совсем. Это было почти пару миль в каждую сторону. Измученные маршем и недостатком отдыха, мы почти слишком устали, чтобы есть. Как вы можете догадаться, готовка была самой грубой. Все, что мы могли сделать, это отрезать кусочки мяса и сварить их в кастрюлях, используя пальцы вместо вилок. Однако чай был очень освежающим; и, испытывая жажду, мы выпили по галлону. Незадолго до того, как стемнело, подошел бригадный майор и вместе с адъютантом показал нашему полковнику, как поставить пикет перед нашей линией, немного ниже по склону холма. Полагаю, не было необходимости размещать его, потому что город на нашем фронте все еще был занят войсками; но, несомненно, практика будет полезна. У нас также был квартальный гвардеец и ряды часовых впереди и сзади нашей линии, поддерживающие связь с полками на наших флангах. Дров было много, потому что холм был покрыт красивым деревом; но на то, чтобы собрать его, потребовалось некоторое время, потому что у нас не было ничего, кроме карманных ножей, чтобы рубить ветки. Итак, мы легли спать. У моей компании не было никаких обязанностей, и мы провели ночь без помех. Но, хотя я и устал, волнение и непривычность ситуации мешали мне уснуть. И хотя ночь была тихой и теплой, а лес нас укрыл, я вскоре обнаружил, что холодно, и укрытие было не лучше, чем мой тонкий пыльник, тем более что одежда моя, пропитанная потом днем, никогда не высыхала. И до рассвета я проснулся от короткого сна, дрожа от холода, и был рад согреться с другими у костра. Затем я заметил, что противоположные холмы на юге были усеяны огнями; и сначала мы подумали, что они должны принадлежать врагу, но нам сказали, что земля там все еще удерживается сильным арьергардом регулярных войск и что нечего бояться неожиданности.
При первых признаках рассвета рожок полков прозвучал reveillé, и нам приказали упасть, и была объявлена перекличка. Отсутствовали около двадцати человек, которые накануне заболели. Я полагаю, их отправили в Лондон поездом ночью. Простояв в колонне около получаса, бригадир спустился с приказом сложить оружие и стоять спокойно. Возможно, через полчаса нам сказали как можно быстрее позавтракать и одновременно приготовить дневную еду. Этой операцией управляли почти так же, как и накануне вечером, за исключением того, что у нас были наготове кастрюли и чайники. Между тем у нас было свободное время, чтобы осмотреться, и с того места, где мы стояли, открывался прекрасный вид на одну из самых красивых пейзажей Англии. Наш полк был выстроен на краю хребта, который тянется от Гилфорда до Доркинга. Это действительно просто часть огромного мелового хребта, который простирается от Олдершота на восток до Медуэя. Именно здесь есть брешь в гребне, где небольшой ручей, протекающий мимо Доркинга, внезапно поворачивает на север, чтобы найти свой путь к Темзе. Мы стояли на склоне холма, спускающегося на восток к этой пропасти, и миновали наш бивак в каком-то джентльменском парке. Немного выше нас и справа от нас находилась очень красивая деревенская резиденция, к которой примыкала эта часть, теперь занимаемая штабом нашей дивизии. От этого дома холм круто спускался на юг к долине внизу, которая тянется почти на восток и запад параллельно хребту и несет железную дорогу и дорогу из Гилфорда в Рейгейт. В какой-то долине, непосредственно перед замком, и, возможно, в полутора милях от него, был маленький городок Доркинг, укрытый среди деревьев и поднимавшийся у подножия склонов на другой стороне долины который простирался до Лейт Коммон, места вчерашнего марша. Таким образом, основная часть города Доркинг находилась справа от нас, но пригород простирался на восток почти до нашего собственного фронта, завершаясь небольшой железнодорожной станцией, от которой поднимались травянистые склоны парка, усеянные кустарниками и деревьями, где мы стояли. Вокруг этой железнодорожной станции располагались группы вилл и одна или две мельницы, сады которых мы могли видеть с высоты птичьего полета, а их маленькие декоративные водоемы блестели, как зеркала, на утреннем солнце. Сразу слева от нас парк круто спускался к вышеупомянутой пропасти, через которую проходил небольшой ручей, а также железная дорога из Эпсома в Брайтон, почти строго на север и юг, пересекая линию Гилфорда и Рейгейта под прямым углом. Близко к точке пересечения и уже упомянутой маленькой станции находилась станция прежней линии, на которой мы остановились накануне. За пропастью на востоке (слева от нас), продолжая наш хребет, снова поднялся меловой холм. Плечо этого хребта, обращенное к пропасти, называется Бокс-Хилл из-за кустов самшита, которым он был покрыт. Его стороны были очень крутыми, а вершина хребта была прикрыта войсками. Естественная сила нашей позиции проявилась с первого взгляда; высокий травянистый хребет, крутой к югу, с ручьем впереди и лишь немного прикрывающим стороны. Казалось, он создан для поля битвы. Слабым местом был разрыв. Земля на стыке железных дорог и дорог непосредственно у входа в пропасть образовывала небольшую долину, усеянную, как я уже сказал, зданиями и садами. В каком-то смысле это было ключом к позиции, ибо, хотя это было бы неприемлемо, пока мы удерживали бы хребет, командуя им, противник, перенося эту точку и продвигаясь через брешь, разрезал бы нашу линию пополам. Но вы не должны думать, что в то время я так критически сканировал землю. Действительно, любой мог быть поражен естественными преимуществами нашего положения. Но что, насколько я помню, больше всего поразило меня, так это мирная красота пейзажа — маленький городок с очертаниями домов, скрытыми голубым туманом, массивная четкость листвы, очертания огромных деревьев, освещенных светом. от солнца и смягчается темно-синим оттенком. Древесина здесь, поднимавшаяся на южных склонах долины, была такой толстой, что казалось, будто это был первобытный лес. Тишина сцены была более впечатляющей, потому что контрастировала в уме со сценами, которые мы ожидали увидеть. Я могу вспомнить, как будто это было вчера, чувство горького сожаления о том, что теперь уже слишком поздно предотвратить это надвигающееся осквернение нашей страны, которое так легко можно было предотвратить. Немного твердости, немного предвидения со стороны наших правителей, хоть немного здравого смысла, и это великое бедствие стало бы совершенно невозможным. Увы, поздно! Мы были как глупые девы из притчи.
Но не думайте, что обстановка сразу вокруг была мрачной: лагерь был достаточно оживленным и шумным. Мы преодолели стресс усталости; наши желудки были полны; мы чувствовали естественный энтузиазм по поводу перспективы так скоро принять участие в качестве настоящих защитников страны, и мы были воодушевлены видом огромных сил, которые теперь были собраны. По склонам, которые уходили в тыл нашего хребта, маршировали войска — добровольцы, ополчение, конница и орудия. Они, как я слышал, спустились с севера до Лезерхеда прошлой ночью и подошли к ним на рассвете. Через брешь по железной дороге один за другим начали прибывать длинные поезда с ополченцами и добровольцами, которые двинулись на гребень справа и слева и заняли свои позиции, большей частью сосредоточившись на берегу. склоны, которые поднимались вверх и позади того места, где мы стояли. Нам сказали, что теперь мы составляем часть армейского корпуса, состоящего из трех дивизий, но из каких полков входят две другие дивизии, я никогда не слышал. Все это движение мы могли отчетливо видеть с нашей позиции, потому что мы торопились позавтракать, каждую минуту ожидая начала битвы, и теперь стояли или сидели на земле рядом с нашими сложенными руками. Рано утром мы также увидели очень длинный поезд, идущий по долине со стороны Гилфорда, полный красных мундиров. Он остановился на маленькой станции у наших ног, и войска вышли. Скоро мы смогли разглядеть их медвежьи шкуры. Это были гвардейцы, пришедшие для усиления этой части линии. Оставив отряд стрелков удерживать линию железнодорожной насыпи, основные силы пошли вверх пружинящим шагом и под звуки оркестра и двинулись вверх через пропасть слева от нас, продолжая нашу линию. Их было три батальона, потому что они выстраивались в такое количество колонн через короткие промежутки времени. Вскоре после этого меня отправили в Бокс-Хилл с посланием от нашего полковника к полковнику дислоцированного там полка добровольцев, чтобы узнать, можно ли достать карету скорой помощи, поскольку сообщалось, что этот полк хорошо снабжен экипажем, тогда как мы были без них: моя миссия, однако, была тщетной. Пересекая долину, я обнаружил на вокзале сцену большой неразберихи. Все еще шли поезда с припасами, боеприпасами, ружьями и всевозможными приспособлениями, которые разгружались как можно быстрее; но почти не было никаких средств, чтобы снять вещи. Было много повозок всех видов, но почти не было лошадей, чтобы их тащить, и все место было завалено; в то время как, чтобы добавить к путанице, происходил регулярный исход людей из города, которых предупредили, что это, вероятно, будет ареной боевых действий. Дамы и женщины всех мастей и возрастов, и дети, некоторые с узлами, некоторые с пустыми руками, искали места в поезде, но на месте не оказалось никого, уполномоченного предоставить их, и эти бедняги продвигались вверх. и вниз, тщетно прося информации и разрешения уйти.
В толпе я заметил нашего хирурга, который тоже искал какую-то скорую помощь: весь его профессиональный аппарат, по его словам, состоял из ящика с инструментами. Также в толпе я наткнулся на Вуда, старого кучера Трэверса. Его хозяйка отправила его в Гилдфорд, потому что предполагалось, что наш полк приехал туда верхом на лошади и нагружен всем необходимым — едой, одеялами и, конечно же, письмом. Он также принес мой рюкзак; но в Гилфорде лошадь потребовали для артиллерийских работ, и взамен ему выдали квитанцию на нее, так что он был вынужден оставить там все тяжелые свертки, включая мой рюкзак; но верный старик принес столько вещей, сколько мог унести, и, услышав, что мы находимся в этой части, пошел из Гилфорда с таким грузом. Он сказал, что это место было переполнено войсками и что на всем пути между двумя городами ими были выстроены высоты; также, что несколько поездов с ранеными прошли ночью от побережья через Гилфорд. Я повел его туда, где находился наш полк, освободив старика от части груза, от которой он шатался. В отправленной еде теперь не было столько необходимости, но тарелки, ножи и сосуды для питья обещали быть под рукой — и Трэверс, будьте уверены, был рад получить свое письмо; в то время как за пару газет, которые принес старик, все жаждали, даже в этот критический момент, потому что мы не слышали достоверных новостей с тех пор, как покинули Лондон в воскресенье. И даже на таком расстоянии, хотя я только взглянул на газету, я могу вспомнить почти те самые слова, которые я там прочитал. Это были копии одной и той же газеты: первая, опубликованная в воскресенье вечером, когда пришло известие об успешном приземлении в трех точках, была написана тоном отчаяния. Страна должна признать, что была застигнута врасплох. Победитель будет удовлетворен унижением, причиненным миром, продиктованным на наших собственных берегах; Ясно, что правительство обязано принять наилучшие из возможных условий и избежать дальнейшего кровопролития и бедствий, а также предотвратить падение нашей пошатнувшейся торговой кредитоспособности. На следующее утро выпуск был совсем другим. Очевидно, противник получил чек, потому что здесь нас призывали к сопротивлению. Неприступная позиция должна была занять вдоль холмов, там концентрировались силы, намного превосходившие по численности опрометчивые захватчики, которые, имея перед собой непобедимую линию фронта и море позади, не имели выбора между разрушением или капитуляцией. Пусть не будет малодушных разговоров о переговорах, борьба должна вестись; и может быть только одна проблема. Англия, выжидательная, но спокойная, с уверенностью ожидала результата нападения на своих непобедимых добровольцев. Написание показалось мне красноречивым, но довольно непоследовательным. В той же газете говорится, что правительство отправило 500 рабочих из Вулиджа для открытия филиала арсенала в Бирмингеме. Все это время нам нечего было делать, кроме как менять нашу позицию, что мы делали каждые несколько минут, то продвигаясь вверх по холму дальше справа от нас, то продвигаясь вниз по левому краю, поскольку один приказ за другим подавался вниз. линия; но штабные офицеры постоянно скакали с приказами, а грохот артиллерии, переходя из одной части поля в другую, продолжался почти непрерывно. Наконец весь строй встал к оружию, банды поднялись, и генерал, командующий нашим армейским корпусом, со своим штабом поехал вниз. Мы видели его несколько раз раньше, так как утром мы часто перемещались по позиции; но теперь он произвел своего рода формальную инспекцию. Это был высокий худощавый мужчина с длинными светлыми волосами, очень хорошо оседлавший, и, когда он сидел на своей лошади с прямым сиденьем и скакал по канату, с небольшого расстояния он выглядел так, будто ему было двадцать пять. ; но я считаю, что он прослужил более пятидесяти лет и был поставлен в ряды служителей, когда был уже совсем пожилым человеком. Я помню, что у него было больше украшений, чем хватило места на груди его пальто, и он носил их, как ожерелье, на шее. Как и все другие генералы, он был одет в синее, в треуголке и с перьями — я подумал, что это плохой план, так как это делало их очень заметными. Генерал остановился перед нашим батальоном и, посмотрев на нас некоторое время, произнес короткую речь: «У нас есть почетный пост рядом с гвардией ее величества, и мы покажем себя достойными этого и имени англичан». Он сказал, что не нужно быть генералом, чтобы видеть силу нашей позиции; он был неприступным, если его правильно держать. Подождем, пока противник будет хорошо разбит, и тогда будет дан приказ атаковать его. Прежде всего, мы должны быть устойчивыми. Затем он пожал руку нашему полковнику, мы подбодрили его, и он поехал туда, где стояла гвардия.
Итак, думали мы, битва начнется. Но все еще не было никаких признаков врага; и воздух, хотя и жаркий и знойный, стал очень туманным, так что город внизу был едва виден, а холмы напротив были просто смутным пятном, в котором нельзя было отчетливо разглядеть никаких черт. Через некоторое время напряжение чувств, которое последовало за обращением генерала, ослабло, и мы стали меньше чувствовать, будто все зависело от того, чтобы наши винтовки были крепко зажаты: нам сказали снова сложить оружие, и мы получили отпуск, чтобы спуститься к десяткам и двадцати. к ручью внизу, чтобы выпить. Этот ручей, а также все живые изгороди и берега с нашей стороны удерживались нашими стрелками, но город был заброшен. Позиция казалась отличной, за исключением того, что у врага, когда он наступит, было бы почти лучшее прикрытие, чем у наших людей. Пока я был у ручья, из города вышла колонна, направляясь к нашей позиции. На мгновение мы подумали, что это враг, и вы не могли различить цвет униформы для пыли; но это оказался наш арьергард, отступавший с противоположных холмов, которые они заняли прошлой ночью. Один батальон винтовок остановился на несколько минут у ручья, чтобы дать мужчинам напиться, и я минутку поговорил с парой офицеров. Они составляли часть сил, которые атаковали врага при их первой высадке. Сначала они говорили, что у них все было по-своему, и они могли бы легко отбить врага, если бы получили надлежащую поддержку; но все это было неправильно. По их словам, добровольцы действовали очень отважно, но запутались, как и милиция, и атака провалилась с серьезными потерями. Это были раненые отряда, прошедшего ночью через Гилфорд. Офицеры с нетерпением спросили нас об устройстве боя, и когда мы сказали, что гвардия — единственные регулярные войска в этой части поля, зловеще покачали головами.
Пока мы разговаривали, подошел третий офицер, это был смуглый мужчина с гладким лицом и любопытно взволнованными манерами. «Я полагаю, вы добровольцы», — быстро сказал он, и его глаза при этом сверкнули. «Ну, а теперь послушайте сюда. И имейте в виду, я не хочу обидеть ваши чувства или сказать что-нибудь неприятное, но вот что я вам скажу; если бы вы, джентльмены, просто вернулись и оставили нас бороться с этим в одиночку. Это было бы дьявольски хорошо. Мы могли бы сделать это намного лучше без вас, уверяю вас. Нам не нужна ваша помощь, я могу вам сказать. Мы бы предпочли остаться в покое, уверяю вас. Имейте в виду, я не хочу сказать ничего грубого, но это факт «. Страстно выпалив это, он зашагал прочь, прежде чем кто-либо смог ответить, иначе другие офицеры смогли остановить его. Они извинились за его грубость, сказав, что его брат, также в полку, был убит в воскресенье, и что это, солнце и походка повредили его голову. Офицеры сказали нам, что авангард врага идет близко, но он, очевидно, ждал подкрепления и, вероятно, не будет атаковать до полудня. Однако до начала битвы было около трех часов. Чувство ожидания почти иссякло. Мы двенадцать часов ждали предстоящей битвы, пока, наконец, не показалось, что вторжение было всего лишь дурным сном, а враг, которого мы еще не видели, не существовал на самом деле. Пока что все было не так сильно, если не считать цифр и того, что нам сказали, из обзора волонтеров на Брайтон-Даунсе. Я помню, что эти мысли проходили у меня в голове, когда мы лежали группами на траве, одни курили, другие грызли хлеб, некоторые даже спали, когда вялое состояние, в которое мы впали, было внезапно нарушено выстрелом из пистолета. на вершине холма справа от нас, рядом с большим домом. Это был первый раз, когда я слышал, как стреляют из ружья, и хотя это было пятьдесят лет назад, гневный свист выстрела, когда он вылетел из ружья, теперь звучит у меня в ушах. Вскоре звук стал достаточно обычным. Мы все вскочили, услышав рапорт, и упали, почти не сказав ни слова, крепко сжимая винтовки, а ведущие пилоты смотрели вперед в поисках приближающегося врага. Очевидно, это орудие было сигналом к началу боя, потому что теперь наши батареи открыли огонь по всей линии. Я не видел, во что стреляли, да и сами артиллеристы, уверен, не видели ничего. Я уже говорил вам, какой туман окутал воздух с утра, и теперь дым от орудий оседал, как завеса, над холмом, и вскоре мы мало что могли видеть, кроме людей в наших рядах и очертаний некоторых артиллеристов. в батарее, стоящей рядом с нами на склоне справа от нас. Стрельба продолжалась, я думаю, почти пару часов, а ответа все еще не было. Мы могли видеть, как артиллеристы — это был отряд конной артиллерии — работали как ярость, тараня, заряжая и бегая с патронами, командующий офицер медленно ехал вверх и вниз сразу за своими орудиями и всматривался в поле со своим полем. -стекло в туман. Один или два раза они прекращали стрельбу, чтобы дым рассеялся, но это не помогло. Так продолжалось почти два часа, и не последовало ни единого выстрела.
— Если битва такая, — сказал Дик Уэйк, который был моим следующим досье, — это, мягко говоря, легкая работа. Едва эти слова были произнесены, как впереди раздался грохот мушкетов; наши застрельщики были на этом, и очень скоро пули начали звенеть над нашими головами, и некоторые попали в землю у наших ног. До этого времени мы были в колонне; Теперь мы были развернуты в строю на закрепленной за нами земле. Из долины или пропасти слева от нас шла переулок вверх по холму почти прямо на запад или вдоль нашего фронта. У этого переулка был толстый насыпь высотой около четырех футов, и большая часть полка стояла за ним; но немного выше по холму переулок отступал от линии, так что правая часть полка вышла из нее и заняла открытую лужайку в парке. В этот момент банк был отрезан, чтобы мы могли входить и выходить. Утром нам сказали срубить кусты на вершине берега, чтобы освободить место для стрельбы, но у нас не было инструментов для работы. Однако отряд саперов спустился и закончил работу. Моя компания была справа и, таким образом, оказалась вне укрытия дружественного банка. Справа снова была уже упомянутая артиллерийская батарея; затем прибыл линейный батальон, затем снова орудия, затем большая масса ополченцев и добровольцев и несколько выстроились в линию к большому дому. По крайней мере, так было до начала стрельбы. После этого я не знаю, какие изменения произошли.
И вот начала открываться вражеская артиллерия; там, где были размещены их орудия, мы не могли видеть, но мы начали слышать выстрелы снарядов над нашими головами и грохот, когда они рвались чуть дальше. А теперь я с трудом могу вам сказать, что произошло. Иногда, когда я пытаюсь вспомнить эту сцену, мне кажется, что она длилась всего несколько минут; но я знаю, что, когда мы лежали на земле, я думал, что часы никогда не пройдут, когда мы наблюдали, как артиллеристы все еще выполняли свою задачу, стреляя по невидимому врагу, не останавливаясь ни на мгновение, кроме тех случаев, когда время от времени наносился глухой услышанным, и человек упадет, то три или четыре товарища отнесут его в тыл. Капитан больше не ездил туда-сюда, что с ним сталось, я не знаю. Два орудия на время прекратили стрельбу; они каким-то образом получили ранения, и подъехал генерал артиллерии. Мне кажется, я вижу его сейчас, очень красивого мужчину, с прямым лицом, с темными усами и с медалями на груди. Он появился в сильной ярости, когда пушки прекратили огонь.
— Кто командует этой батареей — он плакал.
— Сэр Генри, — сказал офицер, подъезжая к нему, которого я раньше не замечал.
В этот момент группа находится передо мной, отчетливо выделяясь на фоне дыма. Сэр Генри стоит на своем великолепном скакуне, его сверкающие глаза, его левая рука указывает на врага, чтобы усилить то, что он собирался сказать, молодой офицер сдерживает на своей лошади рядом с ним, и приветствуя его правой рукой, поднятой к своему омнибусу. Это на мгновение, затем глухой глухой удар, и лошади и всадники падают ниц на земле. Снаряд попал во всех четверых на линии седла. Кое-кто из артиллеристов подбежал на помощь, но ни один из офицеров не мог прожить много минут. Это был не первый случай, когда я видел убитых. Незадолго до этого, почти сразу же на огневом рубеже вражеской артиллерии, пока мы лежали, я услышал что-то вроде звука удара металла по металлу, и в этот же момент Дик Уэйк, который шел рядом со мной в строю, опираясь на локти, упал вперед на его лицо. Я оглянулся и увидел, что произошло; Выстрел, произведенный с большой высоты, пролетел над его головой, попал в землю позади, едва не отрубив ему бедро. Должно быть, это был мяч, попавший в его штык в ножнах, который произвел шум. Трое из нас отнесли бедолагу в тыл, с трудом перебив сломанную конечность; но он был почти мертв от потери крови, когда мы подошли к доктору, который ждал в защищенной лощине ярдах в двухстах сзади, вместе с двумя другими докторами в штатском, которые подошли, чтобы помочь. Сняли ношу и вернулись на фронт. Бедный Уэйк поступил разумно, когда мы покинули его, но, очевидно, был слишком потрясен потрясением, чтобы иметь возможность говорить. Вуд помогал врачам. До того, как вечер закончился, я нанес еще один такой же визит в тыл. Все это время мы лежали, чтобы по нам стреляли без ответного выстрела, потому что наши застрельщики держали линию стен и ограждений внизу. Однако банк защищал большинство из нас, и теперь бригадир приказал нашей правой роте, которая находилась под открытым небом, также поддержать его; и там мы лежали глубиной около четырех, снаряды грохотали, пули свистели над нашими головами, но почти никто не тронул. Действительно, наш полковник оказался единственным незащищенным, потому что он ехал взад и вперед по переулку, устойчивая, как скала, подножка; но он заставил майора и адъютанта спешиться и укрыться за живой изгородью, держа своих лошадей. Нам всем было приятно видеть его таким крутым, и это вернуло нам доверие к нему, которое было поколеблено вчера.
Время казалось бесконечным, пока мы лежали в бездействии. Мы, конечно, не могли не заглядывать через банк, чтобы попытаться увидеть, что происходит; но ничего нельзя было разглядеть, потому что теперь на нас обрушилась огромная гроза, которая собиралась весь день, и пролился поток почти ослепляющего дождя, который заслонил обзор даже больше, чем дым, в то время как грохот гром и свет молнии можно было слышать и видеть даже сквозь рев и вспышки артиллерии. Однажды туман рассеялся, и на минуту я увидел атаку на Бокс-Хилл, по другую сторону пропасти слева от нас. Это было похоже на сцену в театре — завеса дыма вокруг и четкая щель в центре, которую освещает внезапный отблеск вечернего солнца. Крутой ровный склон холма был заполнен темно-синими фигурами врага, которых я теперь увидел впервые — неправильный контур спереди, но очень твердый сзади: все тело двигалось вперед рывками. , солдаты стреляют и наступают, офицеры размахивают мечами, колонны смыкаются и постепенно уступают дорогу. Наши люди были почти скрыты кустами наверху, откуда можно было видеть дым и их огонь: вскоре из этих кустов на гребне вышла красная линия и устремилась вниз по склону холма, извергая пламя огня. из фронта, когда он продвигался. Враг заколебался, уступил и, наконец, сбежал с холма в растерянной толпе. Затем туман покрыл сцену, но проблеск этого великолепного заряда вдохновлял, и я надеялся, что мы проявим такое же хладнокровие, когда дойдет до нашей очереди. Примерно в это же время наши застрельщики отступили, многие были ранены, одни хромали сами по себе, другие помогали. Основная часть отступила в очень хорошем порядке, остановившись, чтобы развернуться и выстрелить; мы могли видеть конного гвардейского офицера, который ехал вверх и вниз, призывая их не двигаться. Теперь подошла наша очередь. В течение нескольких минут мы ничего не видели, но сквозь дождь и туман раздался грохот пуль, правда, большей частью над берегом. Мы начали стрелять в ответ, подошли к берегу, чтобы стрелять, и наклонились, чтобы погрузить; но наш бригадный майор подъехал с приказом, и через солдат было передано приказание зарезервировать наш огонь. Должно быть, через несколько мгновений, когда нам приказали встать, мы увидели шипы на шлемах, а затем и фигуры наступавших застрельщиков: их оказалось много, пять или шесть глубин. должен сказать, но в произвольном порядке, каждый останавливается, чтобы прицелиться и выстрелить, а затем немного продвигается вперед. В этот момент бригадир на лошади проехал по переулку. «Теперь, джентльмены, дайте им горячее!» он плакал; и стреляли так быстро, как только могли. Казалось, что вокруг нас летит идеальный шторм пуль, и я подумал, что каждое мгновение должно быть последним; Побег казался невозможным, но я не видел, чтобы кто-то упал, потому что я был слишком занят, как и все мы, чтобы смотреть направо или налево, но заряжал и стрелял так быстро, как только мог. Как долго это продолжалось, я не знаю — это не могло длиться долго; ни одна из сторон не могла продержаться под таким огнем много минут, но все закончилось тем, что противник постепенно отступил, и как только мы увидели это, мы подняли ужасный крик, и некоторые из нас вскочили на берег, чтобы дать им прощальный выстрел . Внезапно по линии был передан приказ прекратить стрельбу, и вскоре мы обнаружили причину; батальон гвардии атаковал наискось слева от нас по фронту. Я полагаю, что их фланговая атака, равно как и наш огонь, отбросила врага назад; и это было великолепное зрелище — видеть их устойчивую линию, когда они медленно продвигались по гладкой лужайке под нами, стреляя на ходу, но столь же устойчиво, как на параде. В этот момент мы были в восторге; казалось, что битва выиграна. В этот момент кто-то крикнул, чтобы посмотреть на раненых, и я впервые обернулся, чтобы посмотреть на ряды вдоль переулка. Потом я увидел, что мы не без потерь отбили атаку. Прямо передо мной лежал Лоуфорд из моего офиса, мертвый на спине от пули, пробившей лоб, его рука все еще сжимала винтовку. На каждом шагу был убит или ранен какой-нибудь друг или знакомый, и в нескольких шагах по переулку я обнаружил Трэверса, сидящего, прислонившись спиной к берегу. Шарик прошел через его легкие, изо рта текла кровь. Я поднимал его, но крик агонии остановил меня. Затем я увидел, что это была не единственная его рана; его бедро было разбито пулей (которая, должно быть, попала в него, когда он стоял на берегу), и кровь, текущая вниз, смешалась в грязной луже с дождевой водой под ним. Тем не менее, его нельзя было оставить здесь, поэтому, приподняв его, как я мог, я пронес его через ворота, которые вели за переулок позади, туда, где наш лагерный госпиталь находился в тылу. Это движение, должно быть, причинило ему ужасную агонию, потому что я не мог удержать сломанное бедро, и он не мог сдержать своих стонов, каким бы храбрым он ни был; но как я его вообще нес, я не могу понять, потому что он был намного крупнее меня; но я не ушел далеко, один из множества наших товарищей, все выполняющие одно и то же поручение, когда оркестр и Вуд встретили меня, неся препятствие в качестве носилок, и мы поместили его на него. У Вуда как раз было время сказать мне, что он поставил телегу в дупле и что он попытается сразу же увезти своего хозяина в Кингстон, как вдруг подъехал штабной офицер, чтобы позвать нас в строй. «Вы действительно не должны так отставать, джентльмены, — сказал он, — «Сохраняйте свои ряды». «Но мы не можем оставить наших раненых, чтобы их топтали и умирали», — кричал один из наших товарищей. «Сначала отбейте врага, сэр», — ответил он. «Джентльмены, молитесь, присоединяйтесь к своим полкам, или мы станем обычной толпой». И, несомненно, он заговорил не слишком рано; потому что, помимо наших товарищей, отступающих в тыл, на помощь бежало множество добровольцев из резервных полков, пока вся земля не была усеяна группами людей.
Я поспешил обратно на свой пост, но как раз успел заметить, что вся территория в нашем тылу занята густой массой войск, гораздо более многочисленной, чем утром, и колонна двигалась слева от нашей линии. , на землю прежде, чем держали гвардейцы. Все это время, хотя мушкетирование ослабло, артиллерийский огонь казался сильнее, чем когда-либо; снаряды с ревом грохнули над головой или разорвались; и я признаюсь, что чувствую большое облегчение, когда вернулся в дружеское убежище на переулке. Оглядываясь на берег, я впервые заметил ужасную казнь, которую устроил наш огонь. Пространство впереди было густо усыпано убитыми и тяжело ранеными, а за телами павших врагов можно было только увидеть (уже смеркалось) медвежьи шкуры и красные мундиры наших доблестных гвардейцев, разбросанных по склону. и обозначая линию их победоносного продвижения. Но едва ли могла пройти минута, глядя на поле, как наш бригадир-майор шагнул по переулку пешком (я полагаю, его лошадь подстрелили) с криком: «Встаньте, добровольцы! Они идут. снова; » и мы во второй раз оказались вовлеченными в раскаленную артиллерийскую стрельбу. Я не могу сейчас вспомнить, как долго это продолжалось, но мы могли ясно различить толстую линию застрельщиков, примерно в шестидесяти шагах от них, и конных офицеров среди них; и мы, казалось, держали их под контролем, потому что они были достаточно уязвимы для нашего огня, в то время как мы были защищены почти по плечи, когда — я не знаю как — я почувствовал, что что-то пошло не так. «Нас берут во фланг!» позвал кого-то; и, посмотрев налево, действительно, там были темные фигуры, прыгающие с берега в переулок и стреляющие вдоль нашей линии. Добровольцы в резерве, пришедшие занять место гвардейцев, должны были уступить место в этом месте; Стрелки противника прорвали нашу линию и повернули на левый фланг. Я не могу вспомнить, как был осуществлен следующий ход, был ли он без приказа, но в На короткое время мы оказались вне переулка и выстроились в беспорядочную линию примерно в тридцати ярдах позади него — с нашей стороны, то есть другой фланг отступил намного больше — и противник выстроился вдоль изгородь, и многие из них переходят и выстраиваются на нашей стороне. Слева от нас растерянная масса отступала, стреляя на ходу, а вслед за ней наступала линия врага. Мы стояли так короткое время, стреляя наугад так быстро, как только могли. Нашего полковника и майора, должно быть, расстреляли, потому что некому было отдать приказ, когда кто-то верхом на лошади крикнул сзади — я думаю, это был бригадир: «Итак, добровольцы! иди на них — нападай! » и с криком бросились на врага. Некоторые из них побежали, некоторые остановились, чтобы встретить нас, и на мгновение это был настоящий рукопашный бой. Я почувствовал острую боль в ноге, когда вонзил штык прямо в человека, стоявшего передо мной. Признаюсь, я закрыл глаза, потому что я только что мельком увидел беднягу, когда он упал, его глаза вылезали из его головы, и, какими бы жестокими мы ни были, зрелище было слишком ужасным, чтобы смотреть на него. Но борьба закончилась через секунду, и мы снова расчистили землю вплоть до задней изгороди переулка. Если бы мы пошли дальше, я думаю, мы могли бы вернуть переулок, но теперь мы все вышли из строя; некому было сказать, что делать; противник начал огибать изгородь и открывать огонь, и они пронеслись мимо нас слева; и как это произошло, я не знаю, но мы обнаружили, что падаем назад к нашему правому тылу, почти не оставалось никаких следов, и добровольцы, уступившие дорогу слева от нас, смешались с нами и усугубили замешательство. Было уже почти темно. На склонах, к которым мы отступали, стояла огромная масса резервов, выстроенных колоннами. Некоторые из них, приняв нас за врагов, начали стрелять по нам; наши товарищи, крича им, чтобы они остановились, побежали к их рядам, и через несколько мгновений весь склон холма превратился в беспорядочную сцену, которую я не могу описать, полки и отряды смешались в безнадежном беспорядке. Я полагаю, что большинство из нас повернулось к врагу и выпустило несколько оставшихся патронов.
Было уже слишком поздно прицелиться, к счастью для нас, иначе орудия, которые противник вывел через брешь и стреляли в упор, нанесли бы больший урон. Как бы то ни было, мы не могли видеть ничего, кроме ярких вспышек их огня. В нашем замешательстве мы застряли сразу за нами линейный полк, который, я полагаю, только что прибыл на поле боя, и его полковник и несколько штабных офицеров тщетно пытались проложить путь для него, и они кричали нам, чтобы мы маршировали. позади и ясно, дорога была слышна сквозь рев орудий и беспорядочный вавилонный звук. Наконец конный офицер прорвался вперед, за ним последовала рота по частям, мужчины проходили мимо с твердыми лицами, словно выполняя отчаянную задачу; и батальон, когда он прояснился, казалось, развернулся и двинулся вниз по склону. У меня также есть смутные воспоминания о том, как лейб-гвардия прошла мимо фронта и двинулась к городу — последняя отчаянная попытка спасти положение — прежде, чем мы покинули поле боя. Наш адъютант, который в суматохе отделился от нашего фланга полка, теперь подошел и сумел повести нас или, по крайней мере, некоторых из нас, на гребень холма в тылу, чтобы перестроиться. , как он сказал; но там мы встретили огромную толпу добровольцев, miltia и фургонов, спешивших назад по направлению к большому дому, и нас понесли в ручье по крайней мере на милю, прежде чем можно было остановиться. Наконец адъютант вывел нас на открытое пространство немного в стороне от линии беглецов, и там мы восстановили остатки рот. Сказав нам остановиться, он уехал, чтобы попытаться получить приказ и выяснить, где находится остальная часть нашей бригады. С этого места, по отрогу возвышенности, отходящей от главного плато, мы смотрели сквозь тусклые сумерки на поле битвы внизу. Артиллерийский огонь все еще продолжался. Мы могли видеть вспышки из орудий с обеих сторон, и время от времени мимо нас с криком взорвался и разорвался случайный снаряд, но мы были за пределами звука стрельбы. Эта остановка сначала дала нам время подумать о том, что произошло. Долгий день ожидания сменился азартом битвы; и когда каждая минута может быть вашей последней, вы мало думаете о других людях, и когда вы сталкиваетесь с другим человеком с винтовкой, у вас есть время подумать, являетесь ли он или вы захватчиком, или что вы сражаетесь за свой дом и очаги. Я подозреваю, что все схватки во многом похожи на сантименты, когда они начинаются. Но теперь у нас было время подумать; и хотя мы еще не совсем понимали, как далеко этот день зашел против нас, в умах большинства из нас, должно быть, возникло тревожное чувство самоосуждения; в то время как, прежде всего, мы начали понимать, что потеря в этой битве значила для страны. Тогда мы тоже не знали, что сталось со всеми нашими ранеными товарищами. Реакция тоже началась после усталости и волнения. Что касается себя, то я впервые узнал, что рядом со штыковым ранением в ногу, пуля прошла через мою левую руку, чуть ниже плеча и вне кости. Я помню, как почувствовал что-то вроде удара, когда мы потеряли переулок, но рана осталась незамеченной до сих пор, когда кровотечение прекратилось и рубашка прилипла к ране.
Эти полчаса казались возрастом, и, пока мы стояли на этом холме, нескончаемый топот людей и грохот телег по холмам рядом с нами рассказывали свою историю. Вся армия отступала. Наконец мы смогли различить адъютанта, подъезжающего к нам из темноты. Он сказал, что армия должна отступить и занять позицию на Эпсом-Даунс; мы должны присоединиться к маршу и постараться утром найти нашу бригаду; Итак, мы снова превратились в толпу и, как могли, продолжали свой путь. Он дал нам несколько обрывков новостей, когда ехал рядом с нашей ведущей группой; армия какое-то время хорошо удерживала свои позиции, но враг, наконец, прорвался через линию между нами и Гилфордом, а также на нашем фронте, и протолкнул своих людей через завоеванный рубеж, бросив линию в замешательство, и первый армейский корпус возле Гилфорда также отступал, чтобы не быть обойденным с фланга. Регулярные войска держали тыл; мы должны были как можно быстрее уйти с их пути и позволить им упорядоченно отступить утром. Он услышал, что доблестный старый лорд, командовавший нашим корпусом, был тяжело ранен рано утром и унесен с поля боя. Гвардейцы ужасно пострадали; домашняя кавалерия сбежала с кирасир, но попала в разбитую землю и была ужасно изрезана. Таковы были обрывки новостей, которые передавала наша утомленная колонка. Что стало с нашими ранеными, никто не знал, и никто не любил спрашивать. Итак, мы пошли дальше. Должно быть, была полночь, когда мы добрались до Лезерхеда. Здесь мы вышли из открытого грунта и вышли на дорогу, и блок стал больше. Мы мучительно продвигались вперед; Несколько поездов медленно двигались вперед по железной дороге у обочины дороги, и мы предположили, что с ними были раненые — по крайней мере, такие из них, которым посчастливилось быть подобраными. Когда мы добрались до Эпсома, было уже светло. Ночь после шторма была яркой и ясной, с прохладным воздухом, который, продувая мою промокшую одежду, заморозил меня до костей. Моя раненая нога была жесткой и болезненной, и я был готов упасть от истощения и голода. И мои товарищи были не в лучшем случае; мы ничего не ели с завтрака накануне, а хлеб, который мы положили, был смыт бурей — только немного мякоти осталось на дне моей сумки. Табак был слишком влажным, чтобы курить. В таком тяжелом положении мы ползли, когда адъютант отвел нас в поле у дороги, чтобы немного отдохнуть, и мы, измученные, легли на неряшливую траву.
Был проведен опрос, и только 180 ответили из почти 500 присутствующих в утро битвы. Никто не мог сказать, сколько из них было убито и ранено; но было очевидно, что многие, должно быть, разошлись в суматохе вечера. Отдыхая здесь, мы увидели проезжающую в толпе машин и людей телегу с припасами комиссариата, которую вел человек в форме. «Еда!» крикнул кто-то, и дюжина добровольцев вскочила и окружила телегу. Водитель попытался их сбить; но его стащили с сиденья, и содержимое телеги выбросило в одно мгновение. Это были консервы в жестяных банках, которые мы разрывали штыками. Думаю, мясо уже готовили раньше; во всяком случае, мы его пожрали. Вскоре после этого пришел генерал с тремя или четырьмя штабными офицерами. Он остановился и поговорил с нашим адъютантом, а затем поехал в поле. «Ребята мои, — сказал он, — вы пока присоединитесь к моей дивизии: войдите и последуйте за полком, который сейчас проходит». Мы поднимались, попадали отрядами, по двадцати человек в каждой, и снова свернули в поток, движущийся по дороге; — полки, отряды, одиночные добровольцы или ополченцы, сельские жители убегают, одни с узлами, другие без, немногие. в телегах, но чаще всего пешком; кое-где повозки с магазинами, люди сидели там, где было место, другие были забиты ранеными солдатами. Многие блоки возникли из-за падения лошадей или поломки телег, которые ехали по дороге. В городе беспорядок был еще хуже, потому что все дома казались полными добровольцы и милиционеры, раненые или отдыхающие, или пытающиеся найти пищу, и улицы были почти забиты. Некоторые офицеры тщетно пытались навести порядок, но задача казалась безнадежной. Один или два добровольческих полка, прибывших с севера накануне вечером и остановленных здесь по приказу, достаточно стабильно выстраивались вдоль дороги, и некоторые из отступающих полков, включая наш, возможно, сохранили видимость дисциплины. но по большей части массовое оттеснение в тыл было простой толпой. Регулярные силы или то, что от них осталось, теперь, я полагаю, находились в тылу, чтобы сдерживать наступающего врага. Несколько офицеров из такой толпы ничего не могли поделать. В довершение всего несколько домов освобождались от раненых, доставленных сюда накануне вечером, чтобы не допустить их попадания в руки врага, некоторые в телегах, некоторые люди несли на железную дорогу. Стоны этих бедняг, которых толкали по улице, проникли в наши сердца, хотя усталость и страдания сделали нас эгоистичными. Наконец, следуя указаниям штабного офицера, который стоял, показывая дорогу, мы свернули с главной лондонской дороги и поехали по ней в сторону Кингстона. Здесь давка была меньше, и нам удавалось двигаться довольно стабильно. Воздух был охлажден бурей, и пыли не было. Мы прошли через деревню, где наш новый генерал захватил все трактиры и завладел спиртным; и каждый полк, когда он подходил, был остановлен, и каждый мужчина получил глоток пива, подаваемого ротой. Получил ли хозяин деньги, я не знаю, но это было как нектар. Должно быть, около часа дня мы увидели Кингстон. Мы были на ногах шестнадцать часов и преодолели около двенадцати миль земли. Немного южнее станции Сурбитон есть холм, покрытый тогда в основном виллами, но открытый с западной оконечности, там, где на вершине росла группа деревьев. Мы отклонились от дороги к этому месту, и здесь генерал остановил нас и расположил линию дивизии вдоль своего фронта, лицом на юго-запад, правее линии, доходящей до гидротехнических сооружений на Темзе, налево, простираясь вдоль южного склона холма, в направлении дороги Эпсома, по которой мы ехали. Мы были почти в центре, занимая холм прямо перед генералом, который спешился на вершину и привязал свою лошадь к дереву. Это небольшой холм, но из него открывается обширный вид на равнину вокруг; и когда мы устало лежали на земле, мы могли видеть Темзу, сияющую, как серебряное поле, в ярком солнечном свете, дворец в Хэмптон-Корт, мост в Кингстоне и старую церковную башню, возвышающуюся над дымкой города, с лесами Ричмонд-парка позади него. Для большинства из нас эта сцена не могла не вызывать ассоциации с счастливыми днями мира — дни теперь закончились, и мир был разрушен из-за национального увлечения. Мы не говорили об этом друг другу, но нас охватила глубокая депрессия, отчасти из-за слабости и усталости, без сомнения, но мы видели, что нам предстоит занять другую позицию, и больше не доверяли себе. Если мы не могли удержаться, стоя в строю, на хорошей позиции, но были разбиты на толпу при первом ударе, какой у нас теперь был шанс маневрировать против победоносного врага на этой открытой местности? Чувство отчаяния охватило нас, решимость бороться с надеждой. Тревога за будущее страны, наших друзей и всего, что нам дорого, наполнила наши мысли теперь, когда у нас было время для размышлений. У нас не было никаких новостей с тех пор, как Вуд присоединился к нам накануне — мы не знали, что происходит в Лондоне, или чем занимается правительство, или что-то еще; и хотя мы были истощены, мы чувствовали сильное желание узнать, что происходит в других частях страны.
Наш генерал ожидал найти здесь запас еды и боеприпасов, но ничего не оказалось. У большинства из нас почти не осталось патронов, поэтому он приказал соседнему с нами полку, пришедшему с севера и не участвовавшему в боевых действиях, дать нам количество патронов, достаточное для двадцати патронов на человека, и послал отряд на утомление. Кингстону, чтобы попытаться добыть провизию, в то время как отряду наших товарищей разрешили отправиться на поиски пищи среди вилл в нашем тылу; и примерно через час они принесли немного хлеба и мяса, что дало нам скудную трапезу. Они сказали, что большинство домов пусто, что многие лишены всякой еды, а многие уже повреждены. Было, должно быть, между тремя и четырьмя часами, когда впереди стали слышны звуки канонады, и мы могли видеть дым орудий, поднимающийся над лесами Эшера и Клермонта, и вскоре после этого из леса вышли войска. поля под нами. Это был арьергард регулярных войск. Было также несколько орудий, которые поднялись по склону и заняли свои позиции вокруг холма. Батарей было три, а орудий всего восемь. Позади них была размещена очередь; Это была бригада, по всей видимости, из четырех полков, но всего ее было не больше восьми или девяти сотен человек. Наш и еще один полк были отведены немного в тыл, чтобы освободить им место, и вскоре нам было приказано занять железнодорожную станцию в правом тылу. Моя нога была теперь такой жесткой, что я больше не мог идти вместе с остальными, а моя левая рука была очень опухшей, болезненной и почти бесполезной; но все казалось лучше, чем остаться позади, поэтому я хромал вслед за батальоном, насколько мог, к станции. Немного впереди по линии был товарный склад, прочное кирпичное здание, и здесь разместилась моя компания. Остальные наши люди выстроились вдоль стены вольера. С нами приехал штабной офицер, чтобы организовать раздачу; — сказал он, — нас должны поддержать линейные войска; и через несколько минут поезд, полный их, медленно поднялся с Гилфордской дороги. Это было последнее; мужчины вышли, поезд проехал, и группа начала рвать рельсы, а остальные были распределены по домам с каждой стороны. Отряд сержанта присоединился к нам в нашем сарае, а инженер-офицер с саперами пришел пробивать дыры в стенах, чтобы мы вели огонь; но их было всего полдюжины, поэтому прогресс не был быстрым, и, поскольку у нас не было инструментов, мы не могли помочь.
Когда мы наблюдали за этой работой, к нам заглянул адъютант, который был как всегда активен, и сказал, чтобы мы собирались во дворе. Группа усталости вернулась из Кингстона, и нам передали небольшую тележку пекаря с едой в качестве нашей доли. В нем были буханки, мука и несколько кусков мяса. Мясо и муку у нас не было ни времени, ни средств приготовить. Хлеб, который мы съели; Во дворе был кран с водой, так что мы чувствовали себя отдохнувшими от еды. Мне бы хотелось промыть раны, которые становились очень неприятными, но я не осмеливался снимать пальто, чувствуя себя уверенным, что не смогу надеть его снова. Когда мы ели хлеб, до нас впервые дошел слух о другом бедствии, даже более серьезном, чем то, свидетелями которого мы были сами. Откуда это пришло, я не знаю; но в рядах разнесся шепот, что Вулидж схвачен. Мы все знали, что это наш единственный арсенал, и понимали значение удара. Никакой надежды на спасение страны, если это правда. Подумав над этим, мы вернулись в сарай. Хотя это был только наш второй день войны, я думаю, что мы были уже старыми солдатами, так что мы стали небрежно относиться к огню, и выстрел и снаряд, которые теперь начали открываться по нам, не произвели сенсации. Мы действительно чувствовали нашу потребность в дисциплине и достаточно ясно видели незначительные шансы на успех, исходящие от войск, столь несовершенно подготовленных, как мы; но я думаю, мы все были полны решимости сражаться так долго, как только могли. Наш доблестный адъютант всем отдавал свой дух; а командир штабного офицера был очень веселым человеком и ходил так, как будто мы были уверены в победе. Как только началась стрельба, он заглянул внутрь и сказал, что мы в безопасности, как в церкви, что мы должны быть уверены и хорошо перчить врага, и что скоро прибудут новые патроны. В сарае были ступеньки и скамейки, на которых стояла часть наших людей, чтобы стрелять через верхние бойницы, а линейные солдаты и другие стояли на земле, охраняя второй ряд. Я сел на пол, потому что теперь я не мог пользоваться винтовкой, да и людей было больше, чем бойниц. Артиллерийский огонь, который открылся теперь по нашей позиции, велся с большого расстояния; Едва началось занятие стрелков, как в сарае произошла авария, и я был сбит ударом по голове. На какое-то время я был почти ошеломлен и сначала не мог понять, что произошло. Выстрел или снаряд попали в сарай, но не пробили стену, но удар опрокинул ступеньки, упирающиеся в него, и людей, стоявших на них, обрушив облако штукатурки и кирпичных плит, одна из которых ударила меня. Я чувствовал себя бесполезным. Я не мог пользоваться винтовкой и едва мог стоять; и через какое-то время я подумал, что поеду в свой собственный дом, если найду кого-нибудь еще там. Я встал и поплелся домой. Теперь начался артиллерийский огонь, и наши борта пылали далеко от окон домов, из-за стен и от укрытий некоторых грузовиков, все еще стоявших на станции. Во дворе стреляла пара полевых орудий, а на открытом пространстве в тылу станции был сформирован резерв. Там же был и штабной офицер на коне, наблюдая за сражением в бинокль. Я помню, что у меня еще хватало здравого смысла, чтобы чувствовать, что положение безнадежно. Эта беспорядочная линия домов и садов наверняка в какой-то момент будет прорвана, и тогда линия должна отступить, как веревка из песка.
До нашего дома было около мили, и я думал, как я смогу затащить себя так далеко, когда внезапно вспомнил, что проезжаю мимо дома Траверса — одной из первых вилл в ряду вилл, ведущих тогда от станции Сурбитон в Кингстон. Интересно, его привезли домой, как и обещал его верный старый слуга, и была ли его жена здесь? Я до сих пор помню чувство стыда, которое я испытал, когда вспомнил, что ни разу не подумал о нем — моем лучшем друге — с тех пор, как накануне унес его с поля. Но война и страдания делают людей эгоистичными. Во всяком случае, я пойду сейчас, отдохну немного и посмотрю, могу ли я быть полезен. Садик перед домом был таким же аккуратным, как всегда — я проходил мимо него каждый день по дороге к поезду и знал каждый куст в нем — и пылал цветами, но дверь в холл была приоткрыта. Я вошел и увидел маленького Артура, стоящего в холле. Он был одет так же опрятно, как и всегда в тот день, и когда он стоял там в своем красивом голубом платье, белых штанах и носках, обнажая свои пухлые ножки, с его золотыми локонами, светлым лицом и большими темными глазами — образ детской красоты в тихом холле, как и раньше — вазы с цветами, висящие шляпы и пальто, знакомые картины на стенах — это видение мира посреди войны заставило меня на мгновение задуматься, потеряв сознание и как бы у меня не было головокружения, если столпотворение снаружи действительно существовало, а не было просто ужасным сном. Но рев выстрелов, заставивший трястись дом, и стремительность выстрела дали готовый ответ. Малыш, казалось, почти не осознавал происходящее вокруг него, и поднимался по лестнице, держась за перила, шаг за шагом, как я видел его сотни раз раньше, но повернулся, когда я вошел. Мой внешний вид напугал его, и, шатаясь, я вышел в холл, мое лицо и одежда были залиты кровью и грязью, я, должно быть, показался ребенку ужасным объектом, потому что он вскрикнул и повернулся, чтобы побежать к лестнице в подвал. Но он остановился, услышав мой голос, зовущий его к своему крестному отцу, и через некоторое время робко подошел ко мне. Папа был на битве, сказал он, и был очень болен: мама была с папой: Вуда не было: Люси была в подвале, и отвела его туда, но он хотел пойти к маме. Сказав ему остаться в холле на минуту, пока я не позвоню ему, я поднялся наверх и открыл дверь спальни. Мой бедный друг лежал там, его тело покоилось на кровати, его голова опиралась на плечо его жены, когда она сидела у кровати. Он тяжело дышал, но бледность его лица, закрытые глаза, распростертые руки, липкая пена, которую она вытирала с его рта, говорили о приближающейся смерти. По крайней мере, старый добрый слуга выполнил свой долг — он привел своего хозяина домой, чтобы тот умер на руках у жены. Бедная женщина была слишком занята своим делом, чтобы заметить, как открылась дверь, и, поскольку ребенку было бы лучше, я осторожно закрыл ее и пошел в холл, чтобы отвести маленького Артура в убежище внизу, где пряталась горничная. . Слишком поздно! Он лежал у подножия лестницы лицом к лицу, его маленькие ручки были вытянуты, его волосы были залиты кровью. Я не заметил грохота среди других шумов, но осколок снаряда, должно быть, пробил открытый дверной проем; это унесло его затылок. Смерть бедного ребенка должна была быть мгновенной. Я попытался поднять труп одной рукой, но даже этот груз был для меня непосильным, и, наклонившись, я потерял сознание.
Когда я снова пришел в себя, было совсем темно, и какое-то время я не мог разобрать, где нахожусь; Я действительно лежал какое-то время как полусонный, не чувствуя желания пошевелиться. Постепенно я осознал, что нахожусь на ковровом покрытии комнаты. Весь шум битвы утих, но послышался звук, как будто рядом слышалось много людей. Наконец я сел и постепенно поднялся на ноги. Это движение причиняло мне сильную боль, потому что мои раны теперь сильно воспалились, а моя одежда, прилипшая к ним, сделала их ужасно болезненными. Наконец я встал и ощупью направился к двери и, открыв ее, сразу увидел, где нахожусь, потому что боль вернула мои чувства. Я лежал в маленькой письменной комнате Трэверса в конце коридора, в который я и пробрался. Не было газа, и дверь в гостиную была закрыта; но из открытой столовой мерцание свечи слабо освещало зал, в котором можно было различить полдюжины спящих фигур, а сама комната была забита мужчинами. На столе стояли тарелки, стаканы и бутылки; но большинство мужчин спали на стульях или на полу, некоторые курили сигары, а один или двое в шлемах все еще были заняты ужином, время от времени бормоча что-то между набитыми ртами.
— Храбрые солдаты, эти английские добровольцы, — сказал широкоплечий зверь, засунув в рот большой кусок говядины серебряной вилкой — орудием, которое, как мне кажется, он использовал впервые в своей жизни.
«Да, да», — ответил товарищ, откинувшись на спинку стула с парой очень грязных ног на столе и одной из лучших сигар бедного Трэверса во рту, — «Вы можете идти так хорошо».
«Так точно», — ответил первый оратор,- «но не так быстры, как французские мобили*».
«Гьюисс», — проворчал с пола неповоротливый хам, опираясь на локоть и выпуская облако дыма из своих уродливых челюстей, — «И здесь есть хорошие стрелки».
«Ты прав, долговязый Питер», — ответил номер один, — «Если бы злодеи могли тренироваться так же, как и защищать, нас бы здесь сегодня не было!»
«Верно-верно!» сказал второй; «Из упражнений получается хороший солдат».
Какие еще критические замечания по поводу недостатков наших несчастных добровольцев могли бы пройти, я не стал слышать, поскольку меня прервал звук на лестнице. Миссис Трэверс стояла на площадке для приземления. Я хромал вверх по лестнице ей навстречу. Среди множества изображений тех роковых дней, запечатленных в моей памяти, я не помню ни одного более отчетливого, чем скорбный образ моей бедной подруги, овдовевшей и бездетной через несколько мгновений, когда она стояла в своем белом платье, появляясь, как призрак, из комната мертвых. Свеча, которую она держала, освещала ее лицо и контрастировала своей бледностью с темными волосами, беспорядочно спадающими вокруг нее, ее красота сияла даже на чертах лица, измученных усталостью и печалью. Она была спокойна и даже без слез, хотя дрожащие губы говорили о попытках сдержать эмоции, которые она испытывала. «Дорогой друг, — сказала она, взяв меня за руку, — я шла искать тебя; прости мой эгоизм в том, что пренебрегал тобой так долго; но ты поймешь, — взглянув на дверь наверху, — как я был занят». «Где, — начал я, — это» —— «Мой мальчик?» — ответила она, предвкушая мой вопрос. «Я уложила его у его отца. Но теперь о твоих ранах нужно позаботиться, какой ты бледный и слабый! — Отдохни здесь минутку», — и, спустившись в столовую, она вернулась с вином, которое я с благодарностью выпила, а затем, заставив меня сесть на верхней ступеньке лестницы, принесла воду и белье, отрезала рукав моего пальто, вымыла и перевязала мои раны. «Это я чувствовал себя эгоистом из-за того, что таким образом усугубил ее проблемы; но на самом деле я был слишком слаб, чтобы у меня осталось много воли, и нуждался в помощи, которую она заставила меня принять; и перевязка моих ран принесла неописуемое облегчение. Ухаживая таким образом за мной, она обрывками объяснила, как обстоят дела. Каждая комната, кроме ее собственной, и маленькая гостиная, в которую она меня отнесла с помощью Вуда, были полны солдат. Вуда увезли на ремонт железной дороги, и Люси сбежала от страха; но кухарка остановилась на своем посту, подала ужин и открыла подвал для солдат: она сама не понимала, что они говорили, и они были грубыми и грубыми, но не невежливыми. Она сказала, что теперь я должна пойти, когда мои раны будут перевязаны, чтобы присмотреть за своим собственным домом, где меня могут разыскать. Что касается себя, она хотела только, чтобы ей позволили оставаться там и смотреть — поглядывать в комнату, где лежат тела ее мужа и ребенка, — где к ней не будут приставать. Я чувствовал, что ее совет был хорошим. Я не мог быть никакой защитой, и мне очень хотелось узнать, что случилось с моей больной матерью и сестрой; кроме того, для захоронения должна быть устроена какая-то обстановка. Поэтому я хромал. Не было необходимости выражать благодарность с обеих сторон, и горе было слишком глубоким, чтобы его можно было охватить каким-либо внешним проявлением сочувствия.
За пределами дома было много движения и суеты; проезжает множество телег, фургоны из Сассекса и Суррея, очевидно, впечатленные и охраняемые солдатами; и хотя газ не горел, дорога к Кингстону была хорошо освещена факелами, которые держали в руках люди, стоявшие через короткие промежутки в очереди, которые были схвачены для выполнения служебных обязанностей, некоторые из них были арендаторами соседних вилл. Почти первым из этих факелоносцев, с которыми я столкнулся, был пожилой джентльмен, лицо которого я был хорошо знаком, поскольку часто путешествовал с ним в одном поезде. Я полагаю, он был старшим клерком в правительственном учреждении и был кротким стариком с чопорным лицом и длинной шеей, которую он обычно закутывал в белый двойной галстук, что даже в те дни редко видели. Даже в этот момент горечи меня не могло не позабавить абсурдная фигура, которую представил этот бедный старик со своим торжественным лицом и длинным галстуком, покаявшимся с факелом перед собственными воротами, чтобы осветить путь нашим победителям. Но теперь представился более серьезный объект — проходивший мимо капрал во главе с двумя английскими добровольцами со связанными за спиной руками. Они бросили на меня умоляющий взгляд, и я вышел на дорогу, чтобы спросить капрала, в чем дело, и даже рискнул, когда он проходил мимо, положить руку ему на рукав.
«В путь, негодяй!» — воскликнул зверь, поднимая винтовку, словно собираясь сбить меня с ног. «Должен ли один заключенный, который стреляет в нас, стрелять», — добавил он, и застрелил бы бедолаг, полагаю, если бы я не заступился с офицером, который случайно проезжал мимо.
«Герр Гауптманн, — закричал я как можно громче, — это ваша дисциплина, позволять расстреливать безоружных заключенных без приказа?»
Офицер, к которому обратились с этой просьбой, остановил свою лошадь и остановил стражу, пока он не услышал то, что я хотел сказать. Знание других языков здесь сослужило мне хорошую службу; поскольку заключенные, по-видимому, фабричные работники северной страны, были, конечно, совершенно неспособны дать понять, что их понимают, и даже не знали, чем они обиделись. Поэтому я истолковал их объяснение: они остались позади во время перестрелки возле Диттона, в сарае, и вышли из своего укрытия среди группы врагов с винтовками в руках, последние думали, что они собираюсь стрелять в них сзади. Удивительно, но их не сбили на месте. Капитан услышал рассказ, а затем сказал стражнику отпустить их, и они сразу же скрылись в проселочной дороге. Он был прекрасным, похожим на солдата человеком, но ничто не могло сравниться с дерзостью его манер, которые, возможно, были тем более, что казались не намеренными, а порожденными чувством неизмеримого превосходства. По его мнению, между хромым добровольцем, умоляющим своих товарищей, и капитаном армии-завоевателя образовалась бесконечная пропасть. Если бы двое мужчин были собаками, их судьба не могла быть решена более презрительно. Их отпустили просто потому, что их не стоило держать в плену, и, возможно, убийство любого живого существа без причины противоречило чувству справедливости гауптмана. Но зачем говорить именно об этом оскорблении? Разве каждый человек, живший в то время, не рассказывал свою историю об унижении и унижении? Ибо повсюду повторялась одна и та же история. После первого выстрела, и когда однажды они вывели нас на марш, противник посмеялся над нами. Наша горстка регулярных войск была принесена в жертву почти человеку в тщетном конфликте с численностью; наши добровольцы и ополчение, с офицерами, которые не знали своей работы, без боеприпасов или оборудования, или персонала для наблюдения, голодали посреди изобилия, мы вскоре превратились в беспомощную толпу, отчаянно сражающуюся здесь и там, но с кем, как Маневрирующая армия, дисциплинированные захватчики делали то, что им заблагорассудится. Счастливы те, чьи кости белели поля Суррея; они, по крайней мере, были спасены от позора, который мы пережили.
Даже у вас, никогда не знавшего, что такое жить иначе, как на терпении, даже щеки у вас горят, когда мы говорим о тех днях. Подумайте же, что вынесли те, кто, как и ваш дед, были гражданами самой гордой нации на земле, никогда не знавшей позора или поражений и чьи хвастались тем, что они несли флаг, на котором никогда не заходит солнце! Мы слышали о великодушии на войне; мы ничего не нашли; Было сказано, что война была развязана нами, и мы должны принять меры. Лондон и наш единственный арсенал взят в плен, мы были во власти захватчиков, и они сильно наступили нам на шею. Нужно ли мне рассказывать вам остальное? О выкупе, который мы должны были заплатить, и налогах, собранных для его покрытия, из-за которых мы до сих пор нищие? Жестокая откровенность, которая провозгласила, что мы должны уступить место новой военно-морской державе и быть обезврежены из-за мести? Победоносные войска, живущие на свободе, иго, которое они наложили на нас, сделало еще более возмутительным, что их реквизиции имели видимость метода и законности? Лучше быть ограбленным непосредственно самими солдатами, чем наших собственных магистратов сделать орудиями вымогательства. Как мы пережили ту деградацию, которой подвергались ежедневно и ежечасно, я даже сейчас не понимаю. А для чего нам оставалось жить? Лишенные наших колоний. Канада и Вест-Индия ушли к Америке. Австралия вынуждена отделиться. Индия проиграна навсегда, после того как все англичане были уничтожены, тщетно пытаясь удержать страну, отрезанную от помощи со стороны своих соотечественников. Гибралтар и Мальта отошли к новой военно-морской державе. Ирландия независима и находится в постоянной анархии и революции. Когда я смотрю на свою страну в том виде, в каком она сейчас — торговля пришла в упадок, фабрики молчат, гавани пусты, она жертва нищеты и разложения — когда я вижу все это и думаю, чем была Великобритания в юности, я спрашиваю себя: У меня действительно есть сердце или какое-то чувство патриотизма, что я должен был стать свидетелем такой деградации и по-прежнему заботиться о том, чтобы жить! Франция была другой. Там они тоже должны были есть хлеб скорби под игом победителя! Их падение было едва ли более внезапным или сильным, чем наше. Но война не могла забрать их богатую землю. Им нечего было терять. Их обширные земли, которые составляли их богатство, остались за ними, и они снова поднялись от удара. Но наши люди не могли увидеть, насколько искусственно наше процветание было — все это опиралось на внешнюю торговлю и финансовый кредит. Курс торговли однажды отвернулся от нас, даже на время, он может никогда не вернуться; и что наша кредитоспособность, однажды пошатнувшаяся, может никогда не восстановиться. Если послушать людей того времени, можно было подумать, что Провидение постановило, что наше правительство всегда должно брать взаймы под три процента, и эта торговля пришла к нам, потому что мы жили на маленьком туманном острове в бурлящем море. Они не могли увидеть, что богатство, накопленное со всех сторон, было создано не в стране, а в Индии, Китае и других частях света; и что люди, которые зарабатывают деньги, покупая и продавая природные сокровища земли, вполне могут уехать и жить в других местах, забирая с собой свою прибыль. Люди также не поверили бы, что нашему углю и железу когда-нибудь будет конец, или что они станут настолько дороже угля и железа Америки, что больше не будет иметь смысла их обрабатывать, и поэтому мы должны застраховаться от утраты нашего искусственного положения в качестве великого центра торговли, сделав себя безопасными, сильными и уважаемыми. Мы думали, что живем в коммерческом тысячелетии, которое должно длиться как минимум тысячу лет. В конце концов, самая горькая часть нашего размышления состоит в том, что все эти несчастья и упадок можно было так легко предотвратить, и что мы сами привели их к своей собственной близорукой опрометчивости. Там, через узкий пролив, была надпись на стене, но мы не захотели ее читать. Предупреждения немногих были заглушены голосом народа. Власть затем уходила от класса, который использовался для управления и противостояния политическим опасностям и который с честью принес нацию, незапятнанную прошлой борьбой, в руки низших классов, необразованных, неподготовленных к использованию политических средств. прав, и демагоги поколебали; а те немногие, которые были мудрыми в своем поколении, были объявлены паникерами или аристократами, которые стремились к собственному возвышению, тратя государственные деньги на раздутые вооружения. Богатые были праздными и роскошными; бедняки не верили в цену защиты. Политика превратилась в простую торговлю за радикальные голоса, и те, кто должен был вести нацию, скорее склонились, чтобы потворствовать эгоизму того времени, и потакали народному призыву, осуждающему тех, кто обеспечит защиту нации путем принудительного вооружения ее. мужественности, как посягательство на свободы людей. Поистине, нация созрела для падения; но когда я размышляю о том, как немного твердости и самоотречения или политического мужества и дальновидности могли предотвратить катастрофу, я чувствую, что приговор, должно быть, действительно был заслуженным. Нация, слишком эгоистичная, чтобы защищать свою свободу, не могла бы удержать ее. Для вас, мои внуки, которые теперь собираются искать новый дом в более благополучной стране, пусть этот горький урок не будет утерян для вас в стране вашего усыновления. Для меня я слишком стар, чтобы снова начать жизнь в чужой стране. Какими бы тяжелыми и злыми ни были мои дни, не так уж много осталось ждать в одиночестве то время, которое уже недалеко. Когда мои старые кости будут похоронены в земле, которую я так любил и чье счастье и честь Я так надолго пережил.

-Сэр, это переходи всякие границы!
— Неужели вы думаете, я испугаюсь вашего мундира! (с)