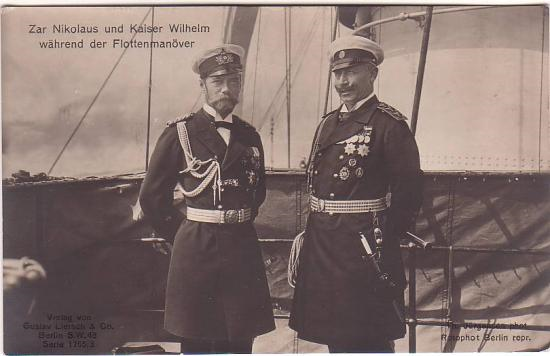Андрей Уланов. Крест на башне. Скачать
Предлагаю вам интригующую книгу от уважаемого автора. Сам ещё не читал, так что буду рад узнать мнение прочитавших. Что касается самого произведения то как обычно, чтобы не нарушать авторских прав выкладываю его ссылку на ЛитРесе, хотя в свободном доступе книгу найти совсем не сложно. Приятного чтения.
Аннотация:
Существуют миры, параллельные нашему, где события развиваются немного по-другому. К примеру, Германия не потерпела поражения в Первой мировой войне, а в России не было Октябрьской революции – и к пятидесятым годам XX века облик мира разительно изменился. Лишь люди, которые живут в этом мире, любят, ненавидят и умирают точно так же, как мы.
Непрекращающаяся мясорубка страшной многолетней войны перемалывает тысячи человеческих судеб. Немецкий унтер-офицер Эрих Восса и русский офицер Николай Береговой – опытные бойцы, демоны битвы, закаленные в боях ветераны – сражаются по разные стороны линии фронта. Но неумолимая логика военных действий заставляет их пути пересечься…
Купить книгу онлайн в магазине ЛитРес
Ну и для затравки первая глава произведения со страницы автора на Самиздате:
Содержание:
Унтер-офицер Ганс Восса, башнер.
Майор на эту деревеньку долго смотрел.
Мне даже интересно стало — нырнул обратно в люк, сунулся к командирскому перископу — он, конечно, майорскому цейсу не чета, но вполне себе панорамный — и сам эту деревушку поразглядывал минут пять.
Ничегошеньки, понятное дело, такого особого не углядел. Обычное, как выражается фельдфебель Аксель: «скопление жилых строений типа населенный пункт». Приземистые домики, беленые, соломой крытые. Внутри, небось, полы земляные и блохи табунами скачут. Признаков жизнедеятельности в деревушке этой не наблюдалось, и удивительного в этом нисколечки — наши «Мамонты» разве что глухой не услышит, да слепой не увидит.
Вылез я обратно на башню — а майор как торчал из неё, так и торчит, словно его вот так, с биноклем у глаз, на заводе из пластмассы отлили и в люке, на страх врагам, установили. Ну а что — комбез на нем черный, волосы черные и рожа вся в саже.
Наконец опустил он гляделку свою…
— Что, — спрашиваю, — герр майор, не нравится вам деревенька?
Понятное дело, любой другой офицер меня за такое нахальство с разворота, да по роже — ну так к любому другом я и не сунулся бы. А майор Крох для меня не просто офицер — отец родной! И не с того дня, как он меня, глушеного, из подбитого бронехода за шиворот вытянул аккурат перед тем, как боеукладка шарахнула, а куда ранее. С тех самых пор, как он тощего сопляка, который-то и за карабин-то толком взяться не умел, из шеренги маршевого пополнения, смазки для гусениц, выдернул и к себе в башню определил. И хрена лысого с того, что в батальоне нашем майора, считай, каждый за второго родителя почитает, даже те ветераны седоусые, у которых детишки постарше его будут — я с ним под одной броней горбачусь, так что он для меня вдвое, втрое! Тем паче, что до него у меня отца настоящего не было — и слава за то Господу нашему, потому как по мне лучше уж поначалу пострадать, но за долготерпение свое такого вот человека повстречать. А если с самого начала урод зеленый попадется, как у соседей по бараку… нет уж, нагляделся, спасибо, не надо нам такого «счастливого» детства. Сами со своими Фрицами да Максами мыкайтесь, а я за майора подержусь, руками, зубами и всем, чем придется, — и посмотрим…
А спросил я его потому, как увидел — на лице майора будто туча осенняя лагерь разбила. Углядел он чего-то в той деревеньке злосчастной, углядел и затаил под сердцем. Ну а если поделится, если на двоих — пусть даже второй этот так, мелочь пузатая типа меня — уже всяко легче.
— Не нравится, Ганс, — задумчиво так кивает майор. — И серьезно не нравится.
— А чем?
— В том и дело, что ничем! — с досадой отзывается он. — Ничего глаз не цепляет… стандартная деревушка. А все равно — маячит в воздухе… только вот к рапорту эту маяту не подошьешь!
Эт-точно! Не подошьешь. И зря, между прочим. Когда люди который уж год с погибелью под руку гуляют, у них такое, как выражается фельдфебель Аксель: «особое заднепроходное чутье типа интуиция» вырабатывается — любо-дорого. Даже у меня, сопляка с помойки городской, пару раз бывало — идешь и вдруг, не с того ни с сего, тянет тебя с тропинки свернуть. Ну, присядешь на траву, начнешь самопалину сворачивать, и тут за поворотом бабах! — подарочек из беспокоящего. А один раз просто как шилом под ребро — пригнись! — и, едва успел, пуля в березу, только щепки в стороны брызнули! Я эту пулю потом выковырял — не какая-нибудь дура шальная, снайперская, серебряный носик… было на ней мое имя, да видно, не до конца прописанное.
Зато вот мехвод наш Нильс Хербергер — у него шнобель здоровенный, мясистый, прожилочек на хороший атлас, ну и чутье он себе наработал прям-таки колдунское. Я уж не упомню, сколько раз бывало — рвемся вперед на полном и вдруг — бам! — лбом о наглазник, значит, Нильс рычаги рванул и, не успеют искры из глаз отсыпаться, глядь, бронебойный трассер прямо перед носом чиркает. Как-то однажды вовсе — перли мы в лоб на батарею ПТО и вдруг Нильс как начал прямо посреди поля кренделя выделывать… под прицельным-то огнем… одно попадание за другим, в башне звон, будто в храмовом набате сидим! Мы его тогда чуть не затоптали, а потом, после боя пошли смотреть — святая дева, там же лепех противотанковых, как грибов после дождичка. И мы на этот пятачок с разгону… а влети хоть на одну и останься без трака… хрена-с-два уползешь, пулеметы с флангов траву стригли, как хороший садовник на любимой лужайке не стрижет!
Короче говоря… я, конечно, нынче умный стал, понимаю, что война — наука точная, её всяким пяточным зудом не накормишь, ей цифры да факты подавай. Но когда у командира боевого, почитай, с первого года без продыху воевавшего, — четыре машины майор сменил, а сам все без царапинки! — при одном взгляде на душе такая вот мутотень начинает бродить… не-е, чегой-то тут глубоко не все в порядке.
Была б моя воля, выкатил бы я на этот пригорок «хоботушку», да спокойненько так, со вкусом, не торопясь, разнес эту деревеньку к растакой-то матери вдребезги напополам. А потом еще и минометами по-квадратно добавил, для надежности и вящего спокойствия. Только кто ж даст — такая роскошь и в прежние времена только по праздникам выдавалась, а нынче и подавно.
Предложить, правда, все равно предложил:
— Герр майор, — говорю, — а может, долбануть по ней «дудкой»? Да и поглядеть, чего в муравейнике забегает?
Лучше было бы, конечно, пушечной очередью вдоль прочесать, так ведь снаряды к КВК-шке — наши, родные — нынче, считай, чуть ли не самый дефицитный ресурс. С «дудкой» куда проще — она, что у нас, что у русских одинакова, по Бофорсовской лицензии штампована!
— Не стоит, Ганс, — отзывается майор. — Бессмысленно. Если там ничего нет — зря потратим ракету, ну а если там и в самом деле нечто серьезное… тогда они тем более не отреагируют. — И в шлемофон, Нильсу, командует: — Поехали.
Соскользнули мы с майором вниз, люки задраили — свежий воздух, оно, само собой, неплохо, да вот только с таким вот сквознячком порой и железяка какая залететь может. Сидит майор в креслице своем, покачивается, думает — ну и я с ним…
«Нечто серьезное» — это он хорошо сказал. Веско так — у меня промеж лопаток сразу мураши во все стороны замаршировали.
Интересно, а чего такого трехцветники могут нам в этой вшивой деревеньке такого приготовить? Все-таки имперский тяжелый бронебатальон… пускай от него и осталось четыре «Мамонта», два легких «Лиса» вторых-эль, ну и всякой твари по мелочи… в прежние времена нас и ротой бы обозвать постеснялись, разве что месяц из боев не вылезать, а посейчас — сила что надо! Даже один «Мамонт», это вам не хухры-мухры с фигли-мигли, а последнее слово имперской военной мысли, три с хвостиком сотни миллиметров модульной лобовой — хрен прогрызешь.
Хуже всего, конечно, турбокоптеры… выплывут из-за верхушек на пределе пуска, разрядят пилон — и прощай, любимая. Теоретически — так, вроде, это слово звучит? — из нашей «дудки» его также достать можно, только вот который год воюю, а лично лицезреть эдакой подвиг не доводилось — все больше в газетках, под фотографиями награждаемых почитывал. Оно ведь как — даже если успеешь засечь, как всплывает… пять и запятая девять десятых секунды, тут бы шашку дымовую успеть отстрелить, а уж свою ракету навести…
Слава Господу, турбокоптеры нынче в большой редкости. Я уж запамятовал, когда последний раз их видел… месяца четыре обратно… ну да, на переправе тогда они нас накрыли. Зенитчики прохлопали — они-то за горизонтом следили, а трехцветники вдоль реки над самой водой подкрались и как врезали… едва люк успел захлопнуть! Два турбокоптера, по пять подвесок на пилоне, двенадцать «стрелок» в блоке… короче, переправа в щепки, четыре грузовика, автобус, ну и народу посекло изрядно. Из наших там семеро осталось. Мне за Руди Кейссера было обидно — мы с ним одногодки, да и вдобавок почти земляки, он из Кельна, я из Дюссельдорфа, полчаса электрички. В батальоне он на месяц позже меня появился, из вяземского котла, когда последний бронеход в болоте утопили потому как топлива сжечь уже не осталось, с пулей в ноге пять суток хромал — и выхромал. А тут попал под «стрелку» с начинкой из игл — и похоронить-то толком нечего, так, мясной фарш пополам с песком лопатами на брезент накидали.
Только, болотному ежу понятно, турбокоптеры в самой деревушке отстаиваться не будут, разве что у них тоже горючки в баках — пилотам на рюмашку. Да и то уж их-то бы трехцветники постарались в тыл уволочь или, по самой крайности, хоть в лес поглубже закатить, да лапником закидать.
Ну а кроме турбокоптеров… стандартным русским пехотным ракетометом «Мамонта» не взять ни в лоб, ни в борт, разве что по ходовой, по каткам, но и там для начала надо экраны снести к растакой матери, а этот фокус тоже не с первой ракеты удается. И пэтэошка ихняя любимая «дага» нас хрен проткнет… баяли, правда, что появился перед самым Распадом к ней новый подкалиберный… так сколько их нашлепать-то могли успеть? Ну, опытная партия… ну, предсерийная… а потом уже бардак начался, так что ежли даже еще чего и успели, все, небось, на заводских складах валяется. Война-то сейчас не прежняя драчка: баловство, любительство, да разброд с разгильдяйством напополам, одним словом — Гражданская. Цели у пушек соответственные — пехота, легкая броня… по идее, эти спецснаряды даже если у кого и были — давно уже пульнули, а то и просто повыкидывали для облегчения.
Может, конечно, в каком-нибудь из этих домишков штурмовое орудие расположилось, соломенной крышей до поры накрывшись, но тогда экипаж в ней из смертничков откровенных. Ну, раз они пальнут, ну два — а потом что? До леса позади километра полтора, пока будут задним ходом пятиться, зайдем во фланг и запалим, аки свечи на Рождество, попытаются в деревне отсидеться — смешаем с землей. Не, не играет. Трехцветники ребята тертые, хваткие, но на тот свет торопиться не спешат. Кто поотчаянней, да побезоглядней был, тех еще на первом году Смуты подмели.
Короче, как я голову не ломал, так и не сумел придумать, чего в той деревушке нехорошего могло затаиться. Поскреб шлем на загривке, плюнул — мысленно, понятное дело — и решил не забивать бошку по-пустому.
Приползли мы обратно в расположение, вылезли на башню — майор сигарету запалил и только мне портсигар протягивает, глядь — Ральф Бауман, как из-под земли, рыжей своей насквозь неуставной бородкой маячит. Вытянулся, откозырял:
— Герр майор, — докладывает, — прибыло обещанное пехотное подкрепление.
Не понравилось мне то, как Ральф это сказал. Майору, похоже, тоже. Дождался он, пока я сигаретку стрельну, защелкнул портсигар, в карман спрятал…
— Ну что, — говорит, — пойдем, Ганс, поглядим на союзников, — на землю спрыгнул и зашагал не оглядываясь.
Я помешкал чуть, мозгой пораскинул — сунул сигаретку за ухо, да нырнул в люк за «бергманном» своим. Благо далеко тянутся не надо — он у меня к борту аккурат под крышей приспособлен. Достал, затвор продернул, на шею повесил и припустил за майором.
Прошли мы через подлесок, к дороге. Выходим из-за елок — стоят. Два грузовика, три автобуса, гражданских, свежеконфискованных, любят синебрюхие с комфортом разъезжать и две легковушки. У переднего автобуса — старичок бмвэшный, года тридцать восьмого, и возил он, судя по подновленной недавно надписи вдоль борта, детишек в школу церковную — на крыше над кабиной пулемет крупнокалиберный торчит, кожух дырчатый в небо задрал. И флаг тряпкой обвис. А флаг этот — я к нему повнимательнее пригляделся и аж с шага сбился! Черный флаг. Сплошь черный, даже одну синюю звездюлину для приличия намалевать не пожелали.
Анархия! Мать так её и разэдак, порядка! Вот уж свезло, так свезло. Прям слов не хватает, не родных немецких, ни русских, что от пленных нахватался.
Народу во всем этом обозе, считая тех, что уже по кустам разбрелись, сотни три было. В форме из них хорошо если четверть, а остальные… ладно бы просто в гражданке, а то ведь один в халате шелковом, другой в смокинг вырядился — а из-под фалд кальсоны торчат. И бабы — одна, две… пятерых я насчитал, а потом у меня от возмущения считалку перехватило.
— Герр майор, — поворачиваюсь, — это ж издевательство натуральное! Этот сброд… патроны тратить жалко, разве что на гусеницы намотать!
— Спокойно, Ганс, — сквозь зубы цедит майор, — не будем судить по внешнему виду, — и ухмыляется недобро так.
Охранения, понятное дело, эта гопа никакого не выставила — мы почти до дороги дошли, пока нас одна девка не засекла, да как завизжит, бутылкой тыча: — Кайзеровцы! Гляди, братва, кайзеровцы!
Как они сразу затворами защелкали…
Майор остановился, затянулся напоследок, окурок аккуратно так каблуком сапога притоптал и спокойно, вроде бы и голоса не возвышая, интересуется:
— Кто здесь есть командир?
— Точно, кайзеровец! Гля, говор какой!
— А сам-то ты откуда такой красивый выполз?
— Хлопцы, а может, того… стрельнуть?
— Кто здесь есть командир? — повторяет майор.
Тут у монастырского автобуса задняя дверь разъезжается и выпадает из него на свет божий троица — один другого колоритнее. Первый — боров, метра под два, выше пояса из одежды только ленты пулеметные, крест-накрест, сам пулемет небрежно так на плече одной лапой держит, пузо как у этих… узкоглазых… борцов сумо — и сплошь татуировками разрисовано, прям хоть свежуй и на стену гобеленом вывешивай. Второй — в шляпе стильной, плаще легеньком цвета мокрого асфальта и шарфике — и шарфик тот не из парашютного шелка, а модельный, по виду марок на полсотни тянет, довоенных, понятно — руки в карманах плаща держит и оттопыриваются эти карманы при этом квадратно так. Ну а третий, между ними — с ног до головы в черной джинсе, сутулый, все время под ноги глядит, словно пуще смерти споткнуться боится и лет ему не-пойми-сколько. Бывают такие — глядишь в упор и все равно не поймешь, то ли он уже четвертый десяток разменял, то ты с ним ровесник без малого.
Подошли они к нам шагов на пять, боров нас взглядом смерил, презрительно так скривился — ну да, из такого как он, если по живому весу считать, троих майоров наделать можно, а уж Гансов и вовсе штук пять выйдет и еще взводный суточный мясной паек останется — и гнусаво: — Хто ето тут вякает?
Майор мне чуть кивнул — сам-то он хоть и понимает почти все, но в разговоре запинается, — только я уже и без его кивка рот открывать начал.
— Во-первых, — рычу, — не вякает, а желает разговаривать командир имперского отдельного тяжелого бронебатальона майор Эрвин Крох. А во-вторых, не с тобой, а с командиром… вашим.
У борова аж челюсть отвисла. Подобрал он её кое-как, захлопнул…
— Ты, — сипит он, — сопляк… я таких…
— Найн! — перебиваю. — Это я таких как ты за последние пять лет выше крыши навидался — когда они, оружие побросав, с поднятыми руками из нор выползали.
— … за шею… голыми руками… мне сам генерал Покровский…
— Что ж, — ехидно так спрашиваю, — ты своих геройских знаков отличия не носишь? Шкура вон какая дубленая — целую панораму изобразили. Пришпилил бы к брюху, да ходил, медальками звеня, так все бы видели и слышали — герой идет.
За спиной у борова как грохнули со смеху — он на них оглянулся, побагровел, шагнул…
— Довольно, — вроде бы негромко это сутулый сказал, а гогот и ржанье враз — как обрезало. Боров же и вовсе на сдутый шарик стал похож — побледнел, обмяк.
— Батько, — бормочет, — я ж токо…
Сутулый в его сторону даже не покосился. Подошел к нам вплотную, взгляд от земли поднял… глянул я в его ледышки тусклые и пальцы сами собой к затворной коробке потянулись. Доводилось мне людей с неприятным взглядом встречать, один гауптман Раух чего стоил, но такого… не знал я, что у человека такой взгляд бывает, а уж тем паче, когда он на другого человека смотрит. Помню, возили нас в школе перед самой войной в зоопарк, на экскурсию, так в тамошнем гадюшнике, террариуме то бишь, гады эти, кайманы и прочие змейства — и то, по-моему, друг на дружку по-иному заглядываются.
— Атаман боевого отряда Союза Черкасских Анархистов, Николай Давыдович Шмель, — представляется, — весьма рад знакомству с вами, герр майор, — и руку протягивает.
Вот уж чего я даже за неделю усиленного пайка не стал — так это руку ему пожимать. Это ж хуже, чем на плевок попасться — дня три будешь дерганый ходить, слизь невидимую оттереть пытаться!
А майор — пожал. И не замешкался на миг, и ни одна жилочка у него на лице при этом не дрогнула. Перчатку, правда, так и не снял.
— Взаимно, герр Шмель.
Штабс-капитан Игорь Овечкин, ротный.
Не знаю, что этот танкист пытался высмотреть в деревне. Поручик Марченко со своими должен был затаиться еще пять минут назад, при первых же звуках двигателя. А больше в деревне смотреть было абсолютно не на что, — несмотря на всю поспешность своего драпа, пейзане прихватили, кажется, даже мышей из распахнутых настежь амбаров. Однако он глядел именно на деревню, долго, упорно и я уже почти начал клевать носом, — три часа беспокойного сна никак не могли скомпенсировать двух предшествовавших бессонных суток — когда, наконец, бронированный монстр взвыл и, пятясь, уполз на обратный скат холма. Потом завывания стали удаляться — причем, на мой вкус, они делали это слишком быстро для виденной нами туши столь внушительных размеров — если я, конечно, не перестал что-либо понимать в делениях собственного бинокля.
На мой вопрос, доводилось ли ему прежде видеть подобное чудо, лежавший рядом фельдфебель Антонов вначале принялся расстегивать воротник гимнастерки с такой лихорадочной поспешностью, словно тот уподобился Лакооновым змеям. И лишь совладав с непослушной пуговичкой, хрипло поведал, что не только видит, но и слышит оного монстра первый раз в жизни, хотя за войны довелось наслушаться всякого.
В этом я был с ним солидарен — тон голоса данного представителя бронированной разновидности членистогусеничных настолько отличался от обычного рева его собратьев по классу, что в первый момент навел меня на мысль о новом психическом оружии господ синепузых.
Затем Антонов осведомился, не разглядел ли чего я — и на этот раз отрицательно кивать выпало мне. На камуфлированной шкуре чудища не было приевшегося нам «обрезанного могендовида», — как ехидно поименовал сей символ капитан Викентьев, — которым наши противники так любят украшать доставшуюся им технику, малюя его, порой, в самых неожиданных местах. Лишь в правом верхнем углу бокового листа башни я разглядел выбивающееся из общего строя пятно, — скорее всего, тактический значок части, — однако расстояние и угол обзора не позволили мне идентифицировать его со сколь-нибудь приемлемой точностью.
В принципе, этот, вынырнувший из подсознательных кошмаров противотанкиста, монстр мог принадлежать кому угодно. Хоть нашим бывшим союзникам, хоть марсианам — правда, в случае последнего варианта, внешний вид, униформа и снаряжение обитателей красной планеты удивительным образом схожи с нашими. Однако, освежив в памяти завет достопочтенного Окамма насчет неумножения сущностей, кое-какие схемы маскировочной окраски, а заодно промелькнувшие перед самым Распадом слухи о последнем порождении мрачного тевтонского гения — Uber Schwere* танке прорыва, — я оставил в сухом остатке самый вероятный и, увы, столь же неприятный для нас вывод.
__________________________________
*(нем. Сверхтяжелый).
__________________________________
Нам предстояла встреча с бравыми ребятами из корпуса Линдермана.
Конечно, все могло обстоять и не настолько плохо — в условиях нынешнего бардака одиночным экземпляром кайзеровского вундерваффе запросто могли завладеть и какие-нибудь хваткие синепузые, сумевшие сохранить оный экземпляр в относительно сносном состоянии. В пользу этой версии говорило то, что рекогносцировка — вообще-то говоря, не самое привычное занятие для тяжелого танка. Эти большие толстошкурые создания, — согласен, не без оснований, — мнят себя на сцене под названьем «поле боя» звездами первой величины и предпочитают появляться на нем только после проведения соответствующей подготовки публики — хорошего артналета, бомбежки, — и в сопровождении свиты. Но лично я всегда предпочитал исходить из худшего — лучше быть приятно разочарованным впоследствии, когда твои пессимистические прогнозы не сбудутся, чем… впрочем, чем кончают на войне оптимисты, известно и так.
Подумав еще немного, я отправил Антонова в деревню: сказать ребятам Марченко, что они могут, — только потихоньку и внимательно глядя по сторонам — начинать дышать, а самому поручику срочно явиться во второй взвод. Сам же направился в «штабную» палатку — поведать командованию о появившихся на горизонте неприятностях.
Не то, чтобы я всерьез надеялся, что полковник Леонтьев сможет чем-то помочь — при всех несомненных талантах его высокоблагородие пока не научился жестом индийского факира вытряхивать из фуражки батарею ПТО или турбокоптер. Но элементарная добросовестность требовала предупредить, что нас вот-вот начнут наматывать на гусеницы, ибо когда сей прискорбный процесс действительно начнется, времени на разговоры не будет, а после… после моим докладом смогут насладиться разве что соседи по облаку или, куда более вероятно, по котлу со смолой — если вспомнить, когда я последний раз рассматривал церковь в качестве Храма Божьего, а не удобной площадки для наблюдателя.
Командование, правда, все же сочло нужным поддержать наш боевой дух, пообещав связаться со штабом дивизии и попытаться выбить либо хоть какую-нибудь поддержку — что проходило по разряду ненаучной фантастики, — либо разрешение на отход. Последнее звучало более заманчиво… но с учетом того, что большую часть нашего обоза составляли две дюжины реквизированных телег, в реальности сводилось к математической задаче для гимназистов третьего класса: успеют ли гужевые повозки из пункта А добраться до пункта Б, если отправившийся вдогонку за ними танк…
Закончив с телефоном, я потратил еще пару минут на игры с находившимся здесь же, в палатке, приемником, гоняя риску настройки по УКВ-шкале. Ничего. Ну и ладно.
Чего я никак не мог понять — так это что вообще могло найтись в этой деревушке такого ценного, чтобы оправдать хотя бы потраченное тяжелым танком горючее, не говоря уж о боеприпасах? Проходящий сквозь неё проселок даже не второ- а третьестепенного значения? Не смешите мои тапочки!
Во втором взводе царила полнейшая идиллия, выражавшаяся в том, что господа офицеры изволили возлежать вокруг фуражки поручика Марченко и аппетитно хрустеть извлекаемыми из оной грушами. Вопиющее падение дисциплины на лице, как любил, бывало, замечать мой первый батальонный, подполковник Галкин. Я почти собрался построить своих орлов по стойке «смирно», но в последний момент раздумал — слишком уж заманчиво выглядели груши. Посему я ограничился, — невзирая на протестующие охи! — дисциплинарной мерой в виде конфискации фуражки, после чего предложил присутствующим высказываться.
Начало высказывания комвзвода-2, в котором он изложил свое виденье обстановки, было кратким, состояло, в основном, из эпитетов, и печати не подлежало. Что же касается наших дальнейших перспектив, то они, по мнению лейтенанта, сводились к двум вариантам: мы могли поступить как разумные люди и спокойно отступить в очень кстати подвернувшееся в километре за нами болотце. Или же геройски — читай, идиотски! — лечь костьми на занимаемых позициях, нанеся противнику ущерб в виде десятка-другого чешуек отлетевшей от брони краски.
Трусом лейтенанта Волконского мог бы назвать лишь человек, никогда не видевший бывшего моремана в бою. Однако на это раз даже мне показалось, что Николай зашел в своем цинизме слишком далеко.
Того же мнения, похоже, придерживался и третий, самый юный из имеющихся в у меня офицеров — прапорщик Дейнека. Он ехидно — насколько это получилось с его забавным ломким голоском, — осведомился у лейтенанта, сознает ли он, что для драпа через болото роте придется бросить весь обоз и тяжелое вооружение? А если сознает, то, может, заодно и припомнит, как «хорошо» нам приходилось без этого вооружения прежде и какой крови стоило его добыть?
Лейтенант ничуть не смутился этим вопросом, возразив, — в общем-то, резонно, — что люди, которые сумели добыть оружие однажды, вполне могут повторить сей подвиг вторично, тогда как мертвецы на это уже не способны. Заодно он предложил прапорщику просветить его на следующую тему: что из этого, столь лелеемого им «тяжелого вооружения» способно занять кайзеровцев на большее время, чем тратит затвор танковой пушки на досылание снаряда в ствол?
Прапорщик начал было лепетать о стрельбе по ходовой и приборам наблюдения, но, оглянувшись, увидел, что направленные на него взгляды даже не насмешливые, а жалостливо-сочувственные, и, смешавшись, замолчал.
Оставался Марченко — и мнение этого спокойного, флегматичного сибиряка было для меня не менее важно, чем мое собственное. Ибо Вадим — в отличие от всех остальных, включая меня, — был настоящим кадровым, еще довоенной закалки, офицером, а таких во всем полку можно было пересчитать по пальцам, уже не прибегая к помощи ног.
На этот раз комвзвода-1 молчал так долго, что я уж начал гадать, что раздастся первым: его голос или давешний вой танка, — либо иной признак начавшейся атаки. Однако господа кайзеровцы с удивительной щедростью продолжали отмеривать нам дополнительные минуты жизни. Возможно, дело было во времени суток — по их регламенту как раз на эти часы приходился обед. Или же перед атакой должно было непременно состояться торжественное зачтение ихнего социал-интернационалистического Талмуда… хотя этому пороку господа из корпуса Линдемана вряд ли подвержены.
Когда Марченко, наконец, заговорил, то первые же произнесенные им слова озадачили меня больше, чем вид давешнего камуфлированного чудища. Давненько мне уже не приходилось слышать от поручика иных определений местности нежели «пригодная к обороне» или «неважный сектор обстрела». А тут — «красивая»…
Местность и впрямь была красивая и для последнего — самого последнего! — боя подходила вполне, в этом я был с Вадимом согласен. Предложенный же им план… не то, чтобы он мне очень понравился, но с ним у нас появлялся хоть какой-то шанс приложить напоследок синепузых и их кайзеровских камрадов, а при иных раскладах не было и этого.
Атака началась ровно в три или же, как любил въедливо уточнять лейтенант Волконский, в 15-00. Кстати, позднее, Николай пытался уверить меня, что на его морском хронометре было уже две минуты четвертого, но коли приходится выбирать между его заслуженными ходиками и немецкой педантичностью…
Все произошло очень быстро. Над полем разнесся уже знакомое нам завывание и из-за пригорка дружно вынырнули, расходясь веером, четыре танка. За ними появилась стрелковая цепь.
Собственно, после сверхтяжелых кайзеровских танков я бы ничуть не удивился появлению «маультиров» с панцергренадерами. Однако неторопливо бредущая за танками пехота оказалась, что называется, местного разлива, причем даже более сбродная, чем обычные синепузые. Видимо это был какой-то «партизанский отряд» или, попросту говоря, банда, которую командование синих решило использовать в качестве расходного материала.
Второй и третий танк, настороженно повода тонкими хоботками спаренных стволов, остановились за пятьсот метров от окраины деревушки. Фланговые же продолжали медленно ползти вперед, обходя её — и подставляя свои борта нашему второму ракетомету. Затем пехотная цепь миновала замершие танки — и почти в тот же миг надсадный вой перекрыла заливистая трель пулеметной очереди.
Тянулась она нескончаемо — по крайней мере, субъективно для меня, хотя на самом деле отстрелять короткую, в полсотни патронов, ленту — дело нескольких секунд. Синебрюхая пехота мигом зарылась носами в траву, норовя задним ходом отползти поближе к танку… пулемет замолк и я начал тихонько отсчитывать враз пересохшими губами: раз, два, три, четыре… на счет «четыре» хижина, из которой велся огонь, исчезла в вихре дыма и пыли, из которого во все стороны летели доски и горящая солома.
Дым от хижины — точнее, от двух хижин, разнесенной взрывом и соседней — потянулся просто замечательный. Густой, черный-серо-желтый… вот последняя дымо-шашка была, наверное, все же лишней.
Следующим номером нашей программы было сольное выступление комвзвода-2 — и бывший моряк в очередной раз с блеском доказал, что надпись «за отличную стрельбу» присутствует на крышке его хронометра отнюдь не безосновательно. Всадить ракету в борт танка с семи сотен саженей — задача непростая сама по себе. А уж если эта ракета подверглась доморощеному «усовершенствованию», путем заливания в боеголовку полуканистры бензина… но взметнувшееся над танком пламя того стоило.
Вторую ракету Вадим «положил» в борт ближнего танка — взрыв был хорош, но когда танк высочил из дымного облака, я разглядел, что единственным пострадавшим элементом была кровать — одна из шести приваренных к фальшборту в расчете именно на таких как мы любителей кумулятивных забав.
Раз, два, три — на хлипкий кустарник, в ложбинке за которым притаился наш ракетомет, обрушилось не меньше полудюжины снарядов. Кайзеровские стрелки продемонстрировали отличную выучку. Вот только для этого им пришлось отвернуть стволы от деревни — а как раз в этот момент Марченко счел, что устроенная им дымзавеса стала достаточно густой. В лотках у поручика было пять ракет и тратить их понапрасну сибиряк любил не больше Вадима.
Итогом его стрельбы стала распоротая гусеница второго танка и заклиненная башня — по крайней мере, это был единственное, что я отфиксировал визуально — третьего. На этом список наших домашних заготовок заканчивался — слово переходило к господам синепузым.
Поначалу они оправдали наши лучшие надежды — даже не попытавшись прикрыть избиваемые танки огнем, вражеская пехота дружно качнулась назад… и снова уткнулась в траву, когда блеклые в дневном свете красные нити трассеров нарисовали ей не требующий дополнительного перевода стоп-сигнал.
Трассы тянулись от первого, правофлангового танка. Выглядел он жутковато — вместо прежнего камуфляжа на черноте сгоревшей краски четко выделялись белые потеки огнетушителя.
Затем в небе родился пронзительный сверлящий звук, и воздух вокруг меня взорвался.