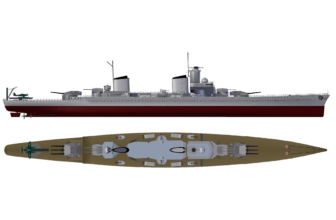Федор.Второй…
Рассказ посвящённый окончанию времени Бориса Годунова и нереализованной альтернативе с царствованием его сына Фёдора.
Содержание:
21 января 1605 года.
Поле боя возле села Добрыничи.
…С того самого момента, когда самозванный царевич Димитрий возглавил свою первую и последнюю в жизни атаку, поведя за собой польскую кавалерию, капитан иноземных наемников Вальтер Розен не спускал с ‘князя’ глаз. Он следил за самозванцем, когда польские гусары опрокинули иноземную конницу Маржерета и та стала в замешательстве отступать. Он продолжал следить за самозванцем, когда, расчистив себе путь, конница ‘князя’ повернула к селу, на окраине которого стояла русская пехота с пушками. Розен глядел на лжецаревича, когда русская артиллерия произвела залп, а затем две первые шеренги пехоты, произведя вздваивание, выстрелили из пищалей. От взгляда Розена не укрылся момент, когда польские гусары в полном беспорядке хлынули назад, а под самозванным царевичем убит был аргамак и он бессильно опрокинулся на снег. Видел Розен, как к самозванцу кинулись несколько поляков в устрашающего вида гусарских доспехах и казаки, одетые поверх лат в белые рубахи.
В это время конница левого фланга рати Мстиславского, опрокинув кавалерию самозванца, начала общее преследование. Московские стрельцы вышли из-за обоза и обрушились на пехоту противника.
-Канальи! Сброд! Сфолоч! — негромко воскликнул Розен и решительно двинулся вперед. За ним последовали десятка два наемников — иноземцев. Немногословных и решительных.
-Хорош Розен. Бросается очертя голову! А еще немец! — сказал с ухмылкой воевода князь Шуйский, под чьим началом был правый фланг русского войска, увидав, как споро и храбро кинулся капитан наемников на беспорядочные толпы мятежников. И отвернулся, стал смотреть в другую сторону, туда, где московские стрельцы бердышами рубили орудийную прислугу ‘воровской батареи’, брошенной мятежниками на произвол судьбы.
А Розен наскочил на пытавшегося подняться из снега самозванца и тяжело рубанул ‘князя’ палашом, наискось, по кирасе. Слетел с головы лжецаревича шлем, тоненько взвыл ‘Димитрий’ и ошеломленный, осел обратно в снег…
…Шуйский, не слезая с коня, подвинулся к своей свите, сказал негромко:
-На Москву посылать гонца с вестью, что у Новгорода — Северского вор побит, и побит крепко…
Для лжецаревича все было кончено…
21 января 1605 года.
У Чемлыжского острожка Комарицкой волости…
Под самый вечер на опушку соснового бора, верстах в двух к югу от Чамлыжского острожка, где располагалась ‘ставка’ самозванного царевича Димитрия, на рысях вышел стрелецкий конный разъезд сотника Степана Смирнова из Государева конного Стремянного полка. Сотник, посланный распоряжением князя Дмитрия Шуйского преследовать и рубить разбежавшихся после Добрыничской битвы бунтовщиков, увидал как от острожка, полем, уходили двое: один прихрамывал сильно, второй в поводу длинном вел коня.
Сотник гикнул во всю силу и разъезд бросился в погоню. Кони, разбежавшись, охватили широким полукругом уходивших к острожку. Один из стрельцов, Матвей Орядин, сорвал с плеча татарский аркан и ловко свалил того, что в поводу вел коня. Тот грохнулся наземь. Стрелец, молодой, сильный, горячась, спрыгнул с коня, упал на заарканенного. Пленник оказался зол до невозможности. Он вцепился в упавшего на него стрельца и стал остервенело грызть ему лицо, горло. Подоспевшие стрельцы скрутили его и оттащили насилу в сторону. Орядин едва поднялся. Все лицо его было залито кровью. Изумленный лютостью пленника, стрелец потянул из ножен саблю и скорее всего, пустил бы его на распыл, но сотник остановил.
-Погодь, — сказал он, — Погодь…
Сотник выступил вперед. Пленник катался по земле, рыл каблуками красных сапог мерзлую землю, кричал матерно, брызгая слюной.
-Ух, собака, — сказал сотник. — Чисто пес бешеный. Ну — ка, ребята, на ноги его поднимите!
Спешившиеся стрельцы, гурьбой бросились к пленнику, подняли с земли.
-Эге, да я его знаю, это ж, ребята, воевода путивльский, вор и изменщик цареву делу, князюшка Мосальский! — удивленно протянул сотник, вглядываясь в ощеренное лицо пленника, продолжавшего обреченно ругаться, клокоча горлом.
-Хромого-то тоже держите! — прикрикнул сотник стрельцам.
Двое стрельцов вцепились во второго пленника. Тот, тяжело дыша, стоял совершенно оцепеневший.
-Ты кто есть? — зло спросил сотник Смирнов. — Говори как на духу!
-Дурачье! Сволочи! — захрипел князь Рубец — Мосальский, в недавнем прошлом второй царский воевода на Путивле, возмутивший посадских жителей, поддавшийся, переметнувшийся, как стрельцам и всему московскому войску было известно, на сторону самозванца, лжецаревича Димитрия. — Против кого прете?! Против государя вашего природного, государя Димитрия Ивановича! Вам бы в ноги ему, в ноги пасть, кланяться и прощенья просить! А вы? Вы…Скоты!
-Во как?! — насмешливо протянул стрелецкий сотник. — Государю в ноги пасть, говоришь? Природному? Государь наш, царь и великий князь Борис Федорович ныне на Москве обретается, а тот про которого ты тут рычишь — есть самозванец, по сатанинскому учению, по Вишневецких князей воровскому умышлению и по королевскому, Сигизмундову, велению, назвавшийся князем Димитрием! Вор и обманщик это! С поляками пришедший!
Сплюнув, сотник подскочил к Рубец — Мосальскому и хлестко, без замаха, вдарил того в зубы.
-Говори, злыдень, кто этот с тобой?!
-Я гетман царева войска. — неожиданно сказал второй пленник. — Оставьте жизнь и получите большой выкуп от польской казны…
Повернувшись к стрельцам, сотник Смирнов весело прокричал:
-Ах, ребята, будет вам, стрельцам Государева Стремянного полку, великая царева милость и царева благодарность! Какого вы, ребята, паука схомутали! Любо — дорого!
Сотник сплюнул под ноги, распорядился зычным, решительным голосом
-Этого вора польского, братцы, мигом вяжите и сей же час на коня — большим воеводам пред очи представить надо немедля!
Стрельцы кинулись, посадили гетмана на коня, стали намертво приторачивать к луке крепкими волосяными путами татарского аркана…
-А с ем шо делать? — спросил Матвей Орядин, кивая сотнику на второго пленника, князя Масальского. Тот все еще зло и обреченно визжал, но уже в голосе спал.
-С князюшкой что делать? — сотник почесал нагайкой затылок и внезапно, зло ощерившись, заговорил с ожесточением. — Пес он! Вот как есть пес, братцы! А коли пес, то держись!
На худом лице стрелецкого сотника проступили скулы.
-Коли пес, то…и удавить его надо! Как пса бешеного! Удавить погань воровскую! Прямо тут, в поле и удавить!
…Когда уж сделано было дело, и Матвей Орядин, брезгливо вытирая руки об кафтан, подошел к сотнику, спросил:
-Все иль еще чаво?
Сотник покачал головой, глянул на бездыханное тело удавленного князя Мосальского, тихо сказал:
-А голову пожалуй, с собой возьмем. Голову предъявить надоть.
Стрелец понимающе кивнул, выпростал из ножен саблю, шагнул к удавленному…
21 января 1605 года.
Стан правительственных войск близ Добрыничей.
Когда капитан Розен втолкнул в шатер князя Мстиславского ошеломленного и растерянного самозванца, князь даже не взглянул на расстригу. Хоть человек он был ничтожнейший по дарованиям (и сам таковое признавал, не на людях, конечно), но знатный по происхождению — первая личность в Боярской думе, князь смекнул, что воеводы нынче во все глаза будут смотреть, как поведет он себя с лжецаревичем. До сих пор не было ничего, что побуждало бы надеяться на преданность князя Годуновым. Отец Мстиславского пострижен был при царе Федоре Борисом Годуновым насильно; сестру в монастыре заточили; самому ему Борис жениться не дозволял, не иначе как с намерением прекратить род, стоявший выше рода Годуновых.
Князь сухо поблагодарил Розена, плеснул анисовой, крякнув, выпил и молча подался из шатра, смотреть пленников.
…Пленников после битвы было много. Взята не одна тысяча поляков, стрельцов, примкнувших к вору, казаков, мужичья воровской Комарицкой волости. Кто — то из царских воевод надоумился пленников согнать к княжескому шатру, поставленному на опушке густого соснового бора в версте от сожженных самими крестьянами Добрыничей. И теперь они стояли угрюмой толпой.
Князь Федор Иванович Мстиславский шагнул из своего шатра в окружении воевод. Тотчас подвели коня. Князь, сунув ногу в стремя, сильно кинул тело на широкую его спину, разобрал поводья и плотно сжав губы, тронул шпорой теплый бок жеребца. Не оглядываясь, бросил коротко:
-Расстригу тащите!
Из шатра наемные немцы выволокли связанного, жалкого, лжецаревича. Дмитрий Шуйский кулаком ткнул самозванца в бок и сказал негромко:
-Иди следом.
Федор Иванович Мстиславский подъехал к пленникам, остановился. Мужики, заносимые снегом, стояли молча. Серые армяки, бороды, темными полосами рты на бледных после боя лицах. Кое — кто стоял без шапок. Ветер шевелил волосы. Особняком стояли среди мужиков поляки в гусарских доломанах с откидными рукавами. Там и сям виднелись в толпе измызганные синие кафтаны изменников-стрельцов…
Жеребец под князем переступил с ноги на ногу, не то замерзая, не то в нетерпении скачки. Мстиславский болезненно сморщился, вглядываясь в серые лица мужиков. Хмурые лица, ничего доброго не ожидают.
Князь глаза сузил.
Подвели самозванца.
-Шабаш, ребята. — громко сказал князь и угрюмые мужики, стоявшие в передних рядах, несколько подались вперед. Княжьим словом решалась сейчас их судьба.
-Шабаш! — громко повторил Мстиславский. — Вот ваш царевич, вор и расстрига! Стоит перед вами! А вы передо мною стоите! И все вы в моей теперь власти! Государем, Борисом Федоровичем, данной! Воровское отродье! Оружно посмели вы против московского войска выступить, присягнули самозванцу, что царевичем Димитрием нарекся. И вся ваша волость Комарицкая, вся вору и расстриге присягнула. Да известно ли вам, что теперь весь род ваш, с женами, да с детьми, да со скотом, подлежит казни? Известно аль нет? Что молчите?!
Пленники молча, злобно, смотрели на князя.
-У меня в войске татар касимовских, считай, полтыщи. Мигну только, и всю вашу Комарицкую волость, яко воровскую, отдам им на разграбление. Эти не пожалеют не токмо мужей, но и жен ваших, и беззлобивых младенцев!
Властной рукой Мстиславский взял на себя поводья. К нему приблизились воеводы Дмитрий Шуйский и Василий Голицын. Не поворачивая головы, князь сказал им:
-Ляхов отделите в сторону.
Стрельцы ринулись в толпу, грубо, спешно, стали отделять пленных поляков, выталкивать их вперед…
Поляков набралось человек с триста. Их отвели в сторону и окружили.
-Э-хе-хе…Перекреститься лишь, а? Перекреститься…А то, кажись, смерть наша подходит… — подал голос кто-то из мужиков.
Князь Мстиславский зыркнул глазами.
-Смерть! — зашелестело по толпе пленников.
Мстиславский обвел глазами воевод. Те молчали.
-Казаков и стрельцов отделите. — приказал князь.
Сделано было и это.
-Казаков воровских и стрельцов-переметчиков повесить! — крикнул князь. — Мужиков гоните в шею! Но перед тем — всем крест целовать, присягать царю Борису Федоровичу!
Угрюмые мужики встрепенулись, заозирались по сторонам, не веря еще, что князь только что их помиловал, взволнованный ропот зашелестел по рядам, кто-то, радости не скрывая, бухнулся в стоптанный снег, на колени.
-Что рты пораззявили?! — зло выкрикнул Шуйский. — Сказано — прочь пошли!
Мстиславский, развернув коня, неспешно потрусил к своему стану. Но внезапно остановился, развернулся и процедил, кивнув на поляков:
-Этих — тоже вздернуть! Чтоб неповадно.
Помолчал, поигрывая желваками и добавил:
-Только не здесь, подальше где. Чтобы наши служилые немцы не видели…
2 февраля 1605 года. Москва.
…Самозванца ждали…В Кремле, на патриаршем дворе, у церкви Трех Святителей, вечером запылал костер. Золоченые купола отсвечивали багрово — красным. Толпой стояли люди, без малого, почитай, что вся Дума, свезенная сюда стараниями Семена Никитича Годунова, главы Сыскного приказа. У костра стоял царь Борис, рядом с ним патриарх Иов, едва державший в непослушной от дрожи руке рогатый посох. Около Иова стояла государыня — царица Мария. Чуть поодаль, в окружении нескольких бояр стояли испуганные несколько Ксения и Федор. Борис мельком взглянул на патриарха, на жену, на детей, ничего не сказал, вздохнул только.
По лицам собравшихся было видно: ждут. Пламя костра гудело, свивалось огненными сполохами. Все молчали. Но вот по цепи стрельцов, окружавших двор, от одного к другому пошло:
— Везут! Везут!
Борис сосредоточенно смотрел на костер. К государю подскочил расторопный окольничий Семен Сабуров и негромко, почтительно, сказал:
-Государь, везут.
Лицо Бориса, освещенное пламенем костра, оборотилось в одну сторону. Глаза настороженно впились в темноту. В свет костра въехала простая телега. На ней, затесненный дюжими стрельцами, сидел самозванец. С телеги соскочил Петр Басманов. Перед самым Кремлем он соскочил с коня и подвинув стрельцов — молодцов, уселся на телегу, подле лжецаревича. С ним в Кремль, на простой телеге и въехал.
Глаза Басманова блестели. Оборотился к стрельцам, крикнул:
-Вора к царевым ногам!
Стрельцы столкнули с телеги самозванца и, растянув за рукава надетую на него кое — как шубу, подвели к царю, поставили ‘царевича’ на колени.
Борис пристально, с затаенным от всех чувством злорадства, скрывая злую усмешку в бороде, рассматривал самозванца. Лжедмитрий был рыжеволос, низок ростом, с короткой ‘бычьей’ шеей и выглядел достаточно неуклюже. Государя неприятно поразило лицо ‘царевича’- оно было круглое и некрасивое, с уродливыми двумя крупными бородавками на лбу и на щеке.
Самозванец запрокинулся, взглянул на Бориса. Стрельцы все держали его за растянутые рукава. Самозванец метнулся из стороны в сторону. И обвис.
Из темноты вышел Семен Никитич Годунов, ‘правое ухо царя’. Поклонился государю и патриарху, боярам и из-за спины, в светлый круг костра, выставил вперед женщину, одетую во все черное.
-Государь! — сказал Семен Никитич Годунов. — Марфу я привел…
Патриарх Иов шатко пошел к ней, протянул руку для целования. Рука Иова дрожала.
Царь остался стоять на месте, только кивнул головой. Бывшая царица молчала, ожидая вопросов и глядела на Бориса из-под черного платка. Недобро глядела.
-Ну. — наконец сказал Борис, не глядя на бывшую царицу. — Сказывай, твой это сын? Признаешь?
Марфа склонила голову.
-Сказывай. — повторил Борис. — Твой сын это али вор и расстрига?
И снова Марфа промолчала.
-Что ж…
Царь Борис поднял руку:
-В застенок!
Стрельцы подхватили обмякшего самозванца, потащили в темноту. Ноги лжецаревича волоклись как мертвые.
Семен Никитич Годунов неслышно шагнул следом…
3 февраля 1605 года. Москва.
По второму разу на пытке огнем Отрепьев не выдержал, захлебываясь, начал говорить, называть людей. Немедля послали за Семеном Никитичем Годуновым. Тот пожаловал в застенок немедля — самолично желал дознать размеры заговора, показать себя верным и единственным государевым псом.
Семен Никитич глянул на Отрепьева, велел подать пытанному вина и присыпать ожоги золой из печки, обратился к палачу, будто в сомнениях пребывая:
-Снять его, что ли с дыбы? Вишь, еле жив, не выдержит, да помрет ненароком…
Палач Ефим Тыртов, положив ладонь на хомут, промолчал, делая вид, что подремывал. Его подручный деловито шарил кочергой в раскаленных угольях. Семен Никитич с сомнением качал головой.
-Снимите. — наконец приказал Годунов.
Отрепьев молча, тяжело дышал, глаза его смотрели как будто мимо людей. Семен Никитич еле заметно кивнул и палач тотчас повел горящей свечой у лица самозванца. Лжецаревич дернулся, но Семен Никитич с удовлетворением отметил, что взгляд у Отрепьева нисколько не бессмысленный, бегающий взгляд, острый.
-Говорить, голубь, надо. — тихо, назидательно, сказал Семен Никитич.
Но Отрепьев молчал, глядел на своих мучителей.
-Эх, голубь, голубок…- снова заговорил Семен Никитич, — Молчишь? А чего молчишь? Ты ж вроде и говорить начал с пытки огнем. Повторить, что ли? Говори, кто над тобой? Кто всей противности начальный человек есть? Из наших поди, али некрещен, обливан?
Семен Никитич зевнул, оглянулся, словно потерял к Отрепьеву всякий интерес, сел к столу, брезгливо смахнул с него допросные листы (приказные суетливо кинулись подбирать их с пола), потянулся сладко и вдруг спросил:
-Пытан огнем два раза? Со второго говорить стал? Так?
Палач кивнул.
Годунов усмехнулся с видом человека, которому многое ведомо, крикнул:
-Кто там? Огня!
Кто — то из приказных подал свечу. Годунов сел за стол, стал листать бумаги, которые приказные подали ему. Боярин читал долго, изредка тыкал пальцем в лист, раздраженно спрашивал дьяков:
-Здесь вот об чем? Только живо, недосуг мне.
Дьяк Лука Кочнов коротко давал пояснения. Остальные приказные, задеревенев от страха, молчали.
-Не то все. Не то. — сокрушенно пробормотал Годунов. — Иль спрашивать-спрашивали, да не умеючи.
Он кивнул палачу:
-Вдевай ему руки в хомут обратно.
Отрепьев заверещал, словно подрезанный, а Ефим Тыртов уже вокруг него вытанцовывал легонько:
-Давай, милый, рученьки — то кверху подними, кверху и сам вперед чуток посунься, ну-ка, подайся, еще маленечко подайся, в петельку рученьки — то…
Ефим уперся ногами в бревно, вскочил, подпрыгнул. В тишине скрипнула веревка, самозванец весь вытянулся, выступили ребра, пот залил почерневшее исхудалое лицо. Подручный палача поднес горящий веник. Отрепьев заговорил глухо, язык плохо ворочался в иссохшемся рту.
-Всех, всех до единого укажу…всех!
-Всех так всех. — согласно кивнул головой Годунов.
Боярин озорно подмигнул Отрепьеву и вдруг добавил, бросив в дрожь приказных:
-И про дьяков допросных скажешь? На одной цепке все тут ходят, и имать надобно всех, голубь…
Семен Никитич встал, подошел к Отрепьеву, взял у подручного палача веник, сделал вид, что пихает его в грудь самозванцу, спросил, оскалясь:
-Кто над всем голова? Говори. От кого все идет? Говори. Говори, детушка, корень где?
24 февраля 1605 года.
Всякая дорога, как известно, имеет конец. Вот и самозванный царевич Димитрий дошагал до конца своей дороги…
На Болоте где вершились торговые казни, где драли кнутом разбойников, татей, девок непотребных, и прочую — всякую московскую сволочь, около грубо и поспешно сколоченного помоста народ, оттаптывая друг другу ноги и наваливаясь на плечи передних, придвинувшись, ждал, притихнув. На площадь сбежались тысячи москвитян. Теснота, давка!
Колесница с приговоренными подъехала к эшафоту, хваткие подручные ката подхватили первым самозванца.
Ворот наспех накинутого на плечи кафтана у самозванца разорван нарочито, под кафтаном-простые рубаха и шаровары, губы разбиты в кровь. Самозванца взвели по лестнице наверх помоста, поставили на краю. Следом подняли бывшего черниговского воеводу Татева и бывшего царев — борисовского воеводу Измайлова. На помосте ждал кат в ярко — красной рубахе.
Вскинул самозванец опущенную на грудь голову, взглянул окрест. С высокого помоста ему было широко видно, и он увидел запруженную народом московским площадь. Самозванец всхлипнул, беззвучно заплакал. Глаза его — тусклые, снулые-свидетельствовали. Что он уже ничего не понимает, ничего не соображает…
…Царский дьяк раскорякой поднялся на смертный помост, шумно высморкался в рукав кафтана, захрустел царевой бумагой с печатью на шнуре, не торопясь, развернул ее, закричал в толпу звонким, хорошо поставленным голосом царский приговор самозванцу, вору и расстриге Гришке Отрепьеву и иным. Пока читалась царева бумага, подручные палача ухватили самозванца за руки, ждали приказа…
Закончив читать приговор, дьяк свернул бумагу. На площади стало так тихо, что и в задних рядах услышали, как хрустнула она в его пальцах. Дьяк оборотился к кату и сказал уже без усилия — каждое слово ловили с лету:
-А сии воры в воровстве уличены, и дело доказано. — взмахнул рукой. — Поступить с ним должно, как царевым словом определено.
Дьяк ощерился, зыркнул в толпу:
-Благословим польского свистуна! — и одними губами процедил царский дьяк кату, -Давай, не медли.
Толпа придвинулась к помосту ближе. Кат поднял руку, молодцы отступились на шаг.
Одним движением ухватив кафтан самозванца, кат сдернул его до пояса, рванул рубаху, обнажив рыхлое, в кровоподтеках тело самозванца…
Молодцы опрокинули самозванца к плахе, держали за плечи вздрагивавшего на февральском морозце лжецаревича.
Дьяк сделал паузу, распахнул зевластый, жаждущий рот, выдохнул зло:
-Руби!
Палач взмахнул топором и легонько опустил его на тяжелую бычью шею самозванца. Народ ахнул, а кат горделиво уж голову отрубленную вздел над собой, показал всем и небрежно на помост скинул.
-Прельщенных вором карать след! — закричал дьяк. — Карать! И карать же всех, кто службы не служит!
К плахе поволокли взвизгнувшего от страха Татева, следом тащили уже Измайлова…
Царь Борис умер внезапно. Встал от обеденного стола — и у него хлынула изо рта кровь. Отнесли в царскую спаленку, призвали немецких врачей с Кукуя, но было поздно. Царь умирал. Спешно в Кремль явился престарелый, немощный, патриарх Иов, белый как лунь, с изможденным молитвами и постами лицом. Иов поднял глаза на царицу Марию Григорьевну, смотрел долго. На лице патриарха лежали тени. Губы были бледны. Царица плакала. Иов уселся у низкого царского ложа, склонился к умиравшему, спросил, отчетливо выговаривая:
-Государь, кому царство, нас, сирых, приказываешь?
Царь молчал. Иов, помедлив, окинул помутневшим старческим оком столпившихся возле царского одра лекарей, начал вновь:
-Государь…
Державшие крест руки Иова ходили ходуном. Патриарх шептал молитву.
-Кровь унять не могли. — негромко сказал один из лекарей, но кто — то цыкнул зло, лекарь тотчас осекся, замолчал.
Двери царской спаленки бесшумно распались, в палату вступили бояре. Впереди всех вошел князь Федор Иванович Мстиславский. Федор Иванович наморщил лоб, задумался. За Мстиславским стоял Василий Шуйский, с торчащей бородой, разинутым ртом, выпученными глазами. За плечами у Шуйского теснились братья. Бочком вступил в спаленку Басманов. Тесня друг друга, бояре с лестницы напирали. Кто — то плакал, хлюпая носом.
-Что там? Ну?
Князь Мстиславский встал на колени, прижался лбом к дубовым половицам. Следом за ним и тотчас повалились снопами и другие бояре.
-А? Что сказал — то Иов? — приглушенно загомонили на лестнице.
Мстиславский, упираясь руками в пол, поднял голову и увидел стоящего за царским ложем, подле слепенького окна, царевича Федора Борисовича. А рядом — Семен Никитич Годунов, глава Аптечного приказа и всего тайного сыска государства московского, ‘правое ухо царя’. Годунов, не мигая, смотрел на князя. Глаза Семена Никитича не то пугали, не то предупреждали. На презрительном лице Годунова проступила гневная краска.
Федор Борисович катнул на розоватых скулах желваки. Дрогнули щеки у Мстиславского, но он сжал зубы и окаменел лицом. Боярин засопел, утопил тяжелый подбородок в широком воротнике.
-Государь, не желаешь ли, чтобы дума нынче присягнула наследнику? — спросил Мстиславский.
Патриарх недобро покачал головой, взглянул на царя. Борис дрожал всеми членами.
-Государь… — снова позвал патриарх Бориса.
Борис ответил еле слышно:
-Как богу и народу угодно.
-И то. — сказал Мстиславский.
Бориса причастили и постригли. Царь закрыл глаза. Иов медлил, согнувшись, над ложем, словно ожидая, что царь заговорит еще, хотя понял — устам Бориса Федоровича никогда не разомкнуться. У него отнялся язык. Царь умер молча.
-К присяге приводить нынче ж. — сказал, будто отрубил, Мстиславский. Басманов хотел взгляд Федора Ивановича перехватить, но так и не разглядел глаз. Насупился боярин Федор, глаза завесил бровями, и что там, за веками, не угадать. Князь шагнул из спаленки царевой на лестницу. Басманов одобрительно кивнул и двинулся следом за князем. Смолчали и остальные бояре, а в каждой голове свои мысли, думки путаные.
Вослед за верхними боярами выпорхнули из дворца на кремлевскую площадь вопли царицы комнатных девиц. Стоящий толпой народ качнулся, единым дыханием родив стон. Стрельцы в клюквенных, зеленых, лазоревых кафтанах, бабы в черных платках, дворовая шушера. Мужики сорвали колпаки да шапчонки, упали на колени. Завыли бабы. Глупа баба, конечно, ан и ей понятно: меняется власть.
Немецкие мордастые мушкетеры, призванные ко дворцу расторопным Басмановым, закованные в железные латы, распахнули перед князем Федором Ивановичем двери. Мстиславский вышел на Красное крыльцо. Шагнул широко, да вдруг остановился. К нему качнулись толпой. Задышали в лицо. Мстиславский чуть отступил. Но, набрав побольше воздуха в грудь, властно крикнул:
-Присягайте царю Федору Борисовичу!
В толпе зашумели, словно бы этого и ждали:
-Да здравствует Федор Борисович!
К Мстиславскому вплотную надвинулся Басманов:
-Караул на всяк случай усилить надобно. Из Кремля народ вон выбить надо и ворота закрыть!
Мстиславский, первый в Думе, поднял на Басманова красные от бессонницы глаза. Посмотрел долгим взглядом.
-Что ж, боишься и впрямь, в набат ударят?
-Эй, лихо нынче петуха пустить! — ответил Басманов и отошел от Мстиславского, подозвал немецкого капитана Розена, вполголоса стал отдавать нужные распоряжения. Откуда — то из — за крыльца выдвинулись плотные шеренги наемных мушкетеров, начали оттеснять народ от крыльца. Немчины — мушкетеры действовали безучастно, и в лицах их ничего не изменилось. Эти многое видели, им все нипочем.
А поодаль, у кремлевских царских палат стояли молодцы наготове, и видать Мстиславскому сразу — не комнатные люди. Годуновские.
А в государевой комнате за массивным дубовым столом, заваленном ворохом свитков, бумаг и гусиными перьями, сидел государь Федор Борисович. В комнату неслышно вошли Семен Никитич Годунов и патриарх Иов.
Федор рукой велел сесть им возле стола. Некоторое время продолжалось молчание. Наконец царь заговорил, усталым, бесцветно — безразличным голосом:
-Во времена оные, грозные, при Иоанне, при Федоре, при отце нашем, Борисе Федоровиче, хватало умысла злонамеренного. И козней хватало. Но, пережили времена. И многих опасностей смогли избегнуть. А нынче ж как? Сумеем избегнуть?
-И сейчас хватает, государь. — возразил Семен Никитич. — Вон, с расстригой и самозванцем какая интрига задумывалась, но сумели сорвать! На Болоте плахой расстрига кончил…
-Великий отче… — начал Федор неуверенно и набравшим силу голосом закончил, — Ответь мне, сподобится ли вечного блаженства на том свете отец наш, почивший ныне?
-Надо думать, и на трех царей с лишком хватило бы того, что довелось испытать и пережить отцу твоему, государь. — тихо сказал Иов. — Из рабов в цари, из ничтожества безвестного — в повелители обширнейшего царства. Во всем мире! Уж чего там, ждет его вечное блаженство на небеси. Верь, государь…
-А уж здесь как получится — неведомо. — усмехнулся невесело Семен Никитич. — Скорей всего, пойдет все вкривь и вкось. И еще так перечертоломят верхние люди — не соберешь угольков. Хитроумны бояре, все древних родов…
-Про то после обскажешь, Семен Никитич. — сказал Федор.
-Царем будешь ты, Федор. — сказал патриарх. — Наследным. Не избранным. Ты наследным царем будешь. Дай Бог, лет несколько протянуть мне, помогу с корнем исторгнуть ядовитые жала, что вокруг престола вьются, подле родословного древа Годуновых.
-Точно! — воскликнул Семен Никитич. — С корнем! Повыведем враждебные роды, для общего спокойствия престола и государства. И ты, Федор, будешь владычествовать над теми, кто с колыбели привыкнет чтить тебя царем, взирать на тебя, как на существо, рожденное для власти. Вот в чем будет твое главное преимущество.
-Путь очищен будет. — подхватил Иов. — Не опусти только голову. Не закручинься…Перемолчим бояр и шатость пройдет.
=====================================================
Царя Бориса похоронили по византийскому пышному чину. В Архангельском соборе, рядом с Иоанном Грозным.
Сразу после похорон патриарх Иов ‘со всем собором вселенским, да бояре, да окольничие, и дворяне, и стольники, и князи, и дети боярские, и дьяки, и гости, и торговые люди, и все ратные и черные люди всем Московским государством и городами, которые в Московской державе’, нарекли на Московское государство государем царевича Федора Борисовича всея Руси на трон с освященным собором. Все ‘заодин’ молили Марию Григорьевну царствовать по — прежнему и разрешить сыну стать государем, что царевич и ‘произволил сделать’. Присяга, принесённая новому царю, включала также имена его матери Марии Григорьевны, сделавшейся фактической правительницей государства, не имея к тому никаких способностей и пользуясь недоброй славой в народе, и сестры Ксении Борисовны, а также клятву ‘не хотеть на царство’ Симеона Бекбулатовича.
Шестнадцатого апреля, на третий день по смерти Бориса, Федор Годунов торжественно принял скипетр ‘вследствие единодушного желания и слезного моления народного’ и роздал огромные подарки ‘на помин души’ царя Бориса, а также объявил амнистию сосланным при Борисе Федоровиче.
Верхние бояре засели в Думе и сидели по целым дням до поздней ночи, потели, зло кричали, вспоминали друг другу обиды, местничались. Семен Никитич Годунов ходил мелким шагом по палатам, наблюдал, молча. На высокий лоб из — под горлатной шапки ползли капли пота. Дрожали губы. В кулак сжимал свою душу боярин, но не поднимал голос. Да его бы и не слушали.
Так вот и сидели бояре по лавкам. Судили да рядили бесконечно. И много думано было, и предостаточно говорено, а ладу не было.
Басманов ускакал в Северскую землю, приводить войско к присяге и ‘сыскивать крамолу’ — слухи о продолжающейся ‘шатости’ войска на Северщине не прекращались. Новый царь Федор Борисович не выходил из своего дворца, но дела вершились в приказах, как раньше было заведено. С утра Федор Борисович затворялся в Грановитой палате, один или с приказным дьяком, или с думным дьяком Афанасием Власьевым, в одночасье вдруг ставшим любимцем молодого государя. И думал. Мысль его бурлила, вытягивая все новые и новые нити страшной пряжи. Он надеялся в устремлениях к российской нови на близких по крови. Но покудова молчал, только думал.
А царица Мария Григорьевна не молчала. Действовала. Тревожные дни иссушили государыню. Она даже помолодела разом, как — то похорошела, постройнела. Только взгляд жгуче черных глаз такой неживой сделался — не то, что в человеке осаживали доброжелательность — собаки и те, рычали, лапами перебирали, отводили и опускали морды. Никто не мог выдержать взгляда Марии Григорьевны. Окромя молодого стольника Михайлы Скопин — Шуйского. Тот, сам едва не отрок, юн годами, смотрел просто, глаз не отводил, все больше молчал, улыбаясь краешком рта…За последние дни широко шагнул стольник, незнамо уж чем примеченный государыней, и выдвинутый вверх без меры. А за стольником теснилось молодое дворянство, более других приверженное и способное к переменам, надеялось, что уж ежели не Борис, то сын его, Федор, перетрясет устоявшееся местничество и введет их в Думу, поднимет на высшие ступени власти. А иные из них уже и говорили вслед горлатным шапкам:
-Ну, подождите…
И горлатные шапки ежились, услыхивая это…И думали — урвать для себя побольше, пожирнее, послаще, глядишь и не удастся боле. Обсесть Кремль, как сладкий пирог, при новом — то государе, не получится. И быть сваре. А кто сверху сядет — того не увидишь пока, но к тому шло, что верх одержат все — таки годуновские…
Едва по Москве поползли зловещие слухи о неспокойствии в войске на Северских землях, царица Мария Григорьевна, взяв с собой одного только молодого стольника Скопин — Шуйского, просто одетая, в неказистой колымаге, закутанная в старенький платок, проехала вокруг стен Кремля. Где толпы взбудораженных москвичей собирались — там выходила, слушала крикунов, головой покачивала. А вечером приказала Скопин — Шуйскому стянуть в Кремль иноземных ратников, да верных стрельцов Стремянного приказа, с сотни две. Кремль крепко затворили. У всех ворот — караулы, с пушками, с затинными пищалями. Михайло Скопин — Шуйский, прытко да ретиво стрельцов и немцев расставил. Стрельцов стольник отбирал самолично, чуть не с каждым разговор вел, к каждому приглядывался; с немцами наемными никаких бесед не вел — те стояли за деньги, и стояли крепко. Для них не было сердечных побуждений к государству, в которое забросила их судьба — лишь бы точно исполнялись бы денежные условия.
Черные глаза царицы Марии Григорьевны полыхали огнем.
-Так князь! — сердито сверка очами Мария Григорьевна. Меня ж и сродников норовят тати устрашить смертию. Так, спуску не велю им давать. Кого надобно — вешай, кого еще надобно — в мешок и в воду! И помни — я с тобою и над тобою. Все верши словом царским и моим словом!
Дальний же сродственник Скопин — Шуйского, боярин Василий Шуйский, пощипывая жидкую сивую бороденку, принялся тем временем мутить народишко на Москве, чтоб от злодейского семени Бориски Годунова избавиться.
В ночь на семнадцатое мая 1605 года три тысячи стрельцов московских заняли все двенадцать ворот Белого города. На рассвете раздался набатный звон с колокольни храма Ильи Пророка, что у Гостиного двора Китай — города. Тотчас же ударили в сполох все сорок сороков московских. Толпы народа запрудили улицы и переулки. Кинулись у ворот дивиться на стрельцов. Боярин Шуйский, будто предвидя такое, еще накануне тайно выпустил из темниц нескольких лихих людей, напоил вином. Теперь они, озорничая, вскрикивали:
-Кого под защиту взяли, служилые? Царя молодого, с евонной матерью — царицей ненавистной! Буде царствовать Годуновым!
Стрельцы уперлись — молчали так, что в три дубины не проймешь. Посмеивались только, да косились на иных москвитян, вооруженных топорами и дубинами, ножами и рогатинами.
-Осади! Не кинем царя-батюшку.
Бурные, гомонные потоки людей хлынули на Красную площадь.
-Бей, круши злыдней!
А на Красной площади верхом на коне разъезжал Скопин — Шуйский с оружной челядью. Ни бога ни черта не боящийся. При нем и немцы с алебардами. Но алебардщиков было слишком мало.
И покатилось тогда по толпе:
-Православные, айда зорить стрелецкие дворы!
Служилые нисколько не заколебались: похватали нескольких озорников и молвили:
-Изменничать супротив царевых ратных людей удумали?! Побьем изменников!
Народ притихнул, услыхав такое.
-Ну, что православные примолкли? — насмешливо бросал московскому люду Скопин — Шуйский, разъезжая сквозь толпу на жеребце черной масти, — Вешать вас надобно от стен кремлевских до вашего же змеиного гнезда. Вот и зараз учнем вешать, коли не разойдетесь.
И истово перекрестился Михайла Скопин — Шуйский, и тронулся к Фроловским воротам. В левой руке князя большой золоченый крест, в правой — меч. Подъехав к Успенскому собору, Михайло Скопин — Шуйский сошел с коня и приложился к образу Владимирской богородицы. Когда обернулся к толпе, красивое дородное лицо его было суровым и воинственным.
И такая сила в словах его была, и в действе всем, что московская толпа стала расходиться, да не просто расходится, а и вовсе разбегаться по окрестным дворам.
Озорников похватанных отдали на суд стрельцам и недолго суд тот рядил: повесили на Ильинских воротах. Трупы болтались, смердили, пугали странников, бредущих через ворота в Китай — город, обезображенными лицами. Но мертвецов не трогали: Скопин — Шуйский запретил снимать под страхом смертной казни.
На второй день наступило на Москве общее успокоение. Стрелецкие караулы от ворот убрали, служилые разошлись по слободам. Бунт, не начавшись, закончился…
Источник — http://samlib.ru/editors/m/masterow_s_p/fedor.shtml