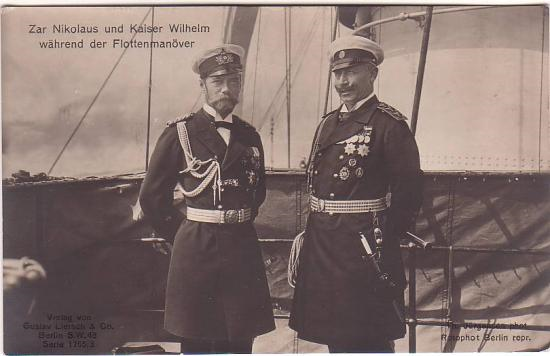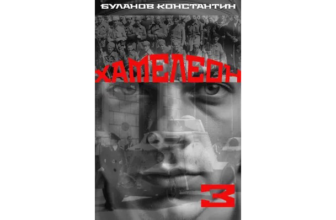Глава Шестая.
Начинай взбираться вверх снизу.
Среда. В лето 7436 года, месяца сентября в 6 — й день (6 — е сентября 1928 года). Седмица 16-я по Пятидесятнице, Глас шестый.
Москва. Екатерининский парк.
Александр Петрович Воробьев обедал с приятелями и с любовницей своей, Еленой Львовной Гончуковой, в «Старой Риге», у Екатерининского парка. Обедали на втором этаже, где стояли для карточной игры зеленые столы, брызгала музыка волнующе, как запах духов, где проходили, благодаря зеркалам, в два раза чаще и картиннее, будоражащие женщины… Бархат, шорох, лоск…Цыгане, под жалобы гитары, твердили неуклонно свое — «любовь прошла», «буран будет», и кое — где за соседними столиками восторженно им подпевали.
Обед тянулся бесконечно, он грозил затянуться до сумерек. Яйца в винном желе, устрицы, телячье жаркое, рис с томатным соусом, сыр, вино, взбитые сливки с шоколадом и кофе с бенедиктином. Вполне по — французски.
Воробьев, сын московского профессора и общественного деятеля, бывший офицер, официально — комиссионер по продаже патефонов и патефонных пластинок, а неофициально — штатный государев палач, плотный коренастый крепыш пятидесяти двух лет, с обезображенным открытым лицом честного человека, с беспокойным умным глазом (давным — давно, во время пустяшных студенческих беспорядков в Дерпте, серной кислотой Воробьеву, бравому поручику, выжгло левый глаз и всю половину лица; опасались и за второй глаз, по симпатической симметрии, но ему сделали пластическую операцию, извлекли сваренный серой глаз, подогнали голландский протез), после тяжелой жратвы (moules*, мясо) с несколькими литрами красного ординера, много и шумно шутил. Дошло до того, что он извлек свой искусственный глаз и, показав приятелям, зачем — то захотел опустить его в вино, но остановился. Мужчины, устав солидно, торжественно, игриво, лукаво, влюбленно, благодарно следить за каждым выкрутасом Воробьева, предупреждая его желания, — ухаживая, наливая, угощая, расстегнув жилеты, разомлевшие, преданно хлопали палача -комиссионера по плечу, сдували крошки и пылинки, обнимали потными руками. Собравшиеся в «Старой Риге» приятели веселились одинаково превосходно.
Воробьев лукаво поглядывая на Елену Львовну (дама была ничего, вполне в его вкусе, с прямыми точеными плечиками, тонкая, с трогательно торчавшей маленькой грудью, и несколько портившей ее жестковатой складочкой у губ), сообщил о родственнике, умершем недавно: его наследники поссорились из — за альбома порнографических карточек, которую он сам и подарил старику. Подстрекаемый восхищенными взглядами, улыбками, возгласами, Воробьев все больше втягиваясь и уступая, пошел красно расписывать, темы становились все более игривыми. Елена Львовна, знавшая наизусть целые главы из «Любовника леди Чаттерлей», запунцовевшая, вся подалась вперед, настороженно — предостерегающе. Но Воробьев — красный, потный, успокоительно кивал ей головой, укоризненно пожимал плечами, давая понять, что где полагается, — смолкнет: не такой он человек. И действительно, Александр Петрович умело, круто, над самой «клубничкой», с края, как говорится, на самом карнизе, останавливался, поворачивал, обходил: этой ловкостью вызывая общее одобрение, ликование приятелей и благодарность в потупленном взоре личного референта…
Приятели визгливо хохотали, разгоряченные выпитым вином дурашливо, по — мальчишески, норовили ткнуть пальцами в искусственный глаз. Воробьев тотчас рассказал анекдот: к богатому жестокосердому еврею приходить бедняк за пятью рублями — крайняя нужда. Богатый решил: «если ты отгадаешь, какой у меня глаз искусственный, я дам три рубля». Бедняк не задумываясь показал: «вот этот, левый». Богатый поразился. А тот объяснил: «Когда я говорил о своем, то в правом глазе — ничего; а в левом я заметил какой — то огонек милосердия и сочувствия».
Александр Петрович, сыто оглядывая хохочущих приятелей, закурил сигару. Обед был почти кончен, когда его позвали к телефонному аппарату. Допив кофе и докурив сигару, он тяжело поднялся и прошел к телефону. Выслушав, что ему сказали в трубку, он бросил в зал ресторации яростный взгляд и громко, вызывающе, произнес:
-Я выезжаю немедля…Да…Это все жидовины проклятые мутят…Семя адово…А мы за веру святую, за государя души кладем, и спуску никому не дадим…Да я уж сколько говаривал — давно пора разом покончить с аспидами, хватит с ними цацкаться! Не жить бы им, продажным! Один и конец. Собакам — собачья смерть!
===========================
moules (фр.) — моллюски.
Среда. В лето 7436 года, месяца сентября в 6 — й день (6 — е сентября 1928 года). Седмица 16-я по Пятидесятнице, Глас шестый.
Москва. Старое Ваганьково.
…Вешали, или иначе сказать, удавливали, по традиции, тайно, в пустующем гаражном сарае в Старом Ваганькове, где располагался исторический комплекс зданий бывшего Аптекарского приказа. Раньше Аптекарский приказ находился в Потешных палатах Московского Кремля, поскольку связь его с царской фамилией была достаточно тесной и именно при нем находились царские врачи. Важными составляющими частями приказа были государева аптека, так называемый Аптекарский огород (то есть место, на котором выращивались лекарственные растения), кабинет редкостей, где собраны были в первую очередь гербарии, и…царская библиотека.
Из книжного собрания Аптекарского приказа появилась царская библиотека, старейшую часть которой составили книги, находившиеся у основателя династии, царя Бориса Федоровича Годунова, его сына, Федора Борисовича, ближнего боярина Семена Никитича Годунова, умершего в 1612 году и западноевропейские издания, привезенные в Москву английскими купцами Флэтчером и Голсуортом в начале 1609 года.
Аптекарский приказ изначально был призван стать чисто дворцовым ведомством, занимавшимся всем, что относилось к здоровью самого Ивана Грозного и царицы. Но очень скоро Аптекарский приказ расширил свою компетенцию и включил в сферу своей деятельности, помимо забот о здоровье царского семейства, еще и заботу о придворных царя, ближних боярах, военачальниках, а затем и о царском войске. Именно на этот приказ была возложена борьба с терзавшими русскую землю «моровыми поветриями» — эпидемиями опасных инфекционных болезней. С годами назначение Аптекарского приказа, а точнее, одной из важнейших его частей, государевой аптеки, — обслуживание, главным образом, царя и членов его семьи, существенно изменилось. Приказ стал основой для личной секретной службы царя.
В середине семнадцатого столетия Аптекарский приказ перевели из Кремля в Старое Ваганьково. Когда — то местом у Ваганьковского холма заинтересовался Иван Грозный, построивший неподалеку Опричный дворец. Теперь же в обширном Аптекарском дворе, обустроенном в Староваганьковском переулке, в каменных палатах, подвергшихся значительным переделкам и перестройкам, разместилось ведомство Государевой Тайной Стражи, впоследствии названное на европейский лад Департаментом Государственной Охраны.
На виселице в Старом Ваганькове за несколько лет уже было втихую повешено свыше полусотни человек, в числе которых был ряд видных и опаснейших террористов, революционеров, а то и московских убийц — душегубов, наводивших страх на весь город.

Этих двоих, Брауде и Трайницкого, политических радикалов — террористов, зарезавших на Мещанской, по «революционному протоколу», филера летучего отряда московской полиции, привезли на казнь в «давилку» затемно, в обычном, серого цвета, хлебном фургоне. Никакой томительной процедуры оглашения приговора не ожидалось — «исполнить рябчиков» должны были быстро, без «бюрократии». Фургон загнали задним ходом в гараж, обоих приговоренных со скованными наручниками руками вывели и поставили около машины. Подошел рыжий с быстро бегающими глазами, священник, неся подмышкой крест и евангелие, предложивший приговоренным исповедаться. Он почему — то особенно рьяно старался «отпустить грехи», имеющие отношение к политической работе осужденных. Но и Брауде и Трайницкий молча отшатнулись от духовника.
-Покайтесь, не будьте упрямы. Умрите с чистой душой, — елейным голосом стал уговаривать осужденных священник.
Брауде не выдержал и громко крикнул:
-Не надо! Отойдите! Христос носил крест на спине, а вы предпочитаете носить его на брюхе. Не будьте же лицемером…
Священник, замолчав, осенил их крестом и отошел в сторону. Приговоренных неспешно подвели к месту казни.
Во дворе усилилось движение, когда из здания Департамента вышла группа людей. Сразу сдержанный, осторожный шум наполнил двор, замелькали огни. Впереди шли Дмитрий Филиппович Дрозд — Бонячевский, прокурор, врач и неизвестный в синих очках и в котелке. За ними городовые стражники, окружавшие своими рядами, как густой цепью, высокое начальство.
Генерал вошел в гараж первым. За ним — доктор, прокурор, на ходу не перестававший чистить ногти удивительным швейцарским ножичком, в котором чего только не было: и подпильники, и уховертка, и в зубах ковырять, и гребеночка усы расчесывать…Последним в сарай вошел «тип» в синих очках. Это и был государев палач, главный «давильщик» Воробьев.
Все устремили свои взгляды на приговоренных. Оба — Брауде и Трайницкий — были в темных пальто, оба прямые, спокойные. Их взгляд, глубокий и загадочный, мгновенно приковался к кольцу в потолке и эшафоту из табуретов и столов. Приговоренных остановили в двух шагах от эшафота. Один из стражников деловито готовил мертвую петлю для виселицы. Веревка была сухая и плохо скользила в петле. Стражник намыливал ее серым мылом и поливал теплой водой. В самом темном углу, у запасных автомобильных шин, расплывчатой кучей выбились саваны для трупов, сделанные из простых мешков…
-Отдыхать некогда, отец Варсонофий. — негромко хохотнул Воробьев, единственным глазом посматривая на Директора и прокурора. — Вот опять у нас с вами работенка. Благословите.
И палач подошел к священнику под благословение. Священник благословил. Палач поцеловал руку священника, и затем они оба подошли к импровизированному эшафоту.
Перед самой казнью мертвенно — бледный, но с улыбкой на осунувшемся лице, Трайницкий обратился к своему товарищу Брауде:
-Ну, друг, давай простимся. Мы умрем без страха и унижения…
Поцеловавшись с товарищем, он сам спокойно взошел на стол, а затем на табурет.
-Палач, я готов. Приступай к своей гнусной работе!
-Давайте без пафоса. — поморщился Дрозд — Бонячевский и прикрикнул, обращаясь к палачу. — В самом деле, что прохлаждаетесь? Заждались.
-Надевайте мешок. — сказал Воробьев стражникам.
И опять смутной и жуткой тенью подплыла к смертнику фигура духовника с крестом в простертой руке.
-Покайся, раб, смирись. Спаси свою душу от мук ада, — прошептал священник.
-Я приму смерть с открытым лицом. — глаза Трайницкого загорелись молодым задором.
-Как будет угодно.
Когда на шею приговоренного была накинута мокрая скользкая петля, Трайницкий сдавленным голосом попытался что — то выкрикнуть.
-Не на конях скачем, аль горит ретивое? — крикнул весело палач и, выбив из — под ног висельника скамейку, с дикой усмешкой гаркнул. — Ноги в воздух. Получай!
Мгновенно стало тихо. Затрепетало тонкое, хрупкое тело юноши, судорожно закорчилось, мотаясь по воздуху, описывая круги и вздрагивая в конвульсиях. Ноги инстинктивно искали опору и не находили ее. А палач неистово быстро затягивал все туже и туже петлю, и из хриплой гортани вырывались комья ругательств. Наконец, в последний раз вытянулось тело удавленного и замерло. В мертвой тишине что — то хрястнуло, — это лопнули шейные позвонки, и тело стало еще более длинным и неподвижным.
И врач, стоявший в сарае с часами в руках, смотрел на минутную стрелку, недовольный лишь тем, что она будто движется слишком медленно. Он сердился на время, протекавшее тягуче — лениво, и облегченно вздохнул, когда прошли установленные процедурой повешения пятнадцать минут. Тогда врач подошел к трупу, пощупал скрюченную, уже синеющую руку казненного и, не находя биения пульса, сделал знак рукой.
-Готово.
Воробьев перерезал ножом веревку. Труп тяжело грохнулся на землю. Расширенным, сумасшедшим взглядом впился Брауде в прах того, кто несколько минут назад жил, разговаривал, кто был его другом до последней минуты, до последнего вздоха…
-На последних твоих минутах принеси покаяние перед господом, он облегчит… — сказал священник, подступая с крестом к Брауде.
-Лучше скажите, чтобы сняли с меня пальто… — ответил приговоренный хрипло. — Неловко…висеть…
-Можно, можно. — милостиво кивнул генерал, услышавший просьбу приговоренного. — И в самом деле, пальто снимите.
Лицо у Дрозд — Бонячевского было желтовато — бледным и слегка обрюзгшим. Усталые глаза смотрели внимательно и строго. Улыбка теплилась только на губах, совершенно не затрагивая властных серых глаз, деловито и холодно наблюдавшими за палачом.
Воробьев и один из стражников сноровисто принялись снимать с Брауде пальто.
-Не понимаю, Дмитрий Филиппович, я то зачем здесь присутствую? — негромко, хмурым голосом поинтересовался прокурор, не сводивший глаз со своего удивительного ножичка.
-Помилуйте, а как же — с законность соблюсти? — Дрозд — Бонячевский усмехнулся, покосившись на ухоженные руки прокурора и ножичек.
-Нет ни решения суда, ни приговора. Откуда здесь, в этом гаражном сарае законности взяться? — возразил прокурор.
-Вы вспомните, как карал Иоанн Грозный. Без присяжных обходился. Да — с…Не помню, кто сказал, какой — то просвещенный европеец, кажется: «Беря на себя миссию правосудия, где — нибудь да нарушишь закон»…Не слышали? Не считайте меня грязным палачом, не люблю. — сказал генерал. — Я с вами в открытую, верно ведь?
-Честно говоря, не совсем понял, отчего вы так откровенны?
-Бывают такие моменты в жизни державы, я бы сказал, роковые моменты, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью отечества. — медленно, словно нехотя, сказал Дрозд — Бонячевский. — Вы меня понимаете?
-Стоять на высоте не всегда удобно и безопасно. — вздохнув, ответил прокурор. — Головокружение нередко оставляет радость развертывающихся далей. А если человек поднялся на верхотуру не для бескорыстного созерцания, а для работы, то ему угрожает вполне реальная опасность скатиться в пропасть…
-Государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные меры, чтобы оградить себя от распада. Понимаете? Это состояние необходимой обороны. Оно доводило государство не только до усиленных репрессий, оно доводило государство до подчинения всех одной воле, ежели хотите, произволу одного человека, оно доводило до диктатуры, которая иногда выводила государство из опасности и приводила к спасению.
-Но такого рода временные меры не могут приобретать постоянного характера. — поспешно возразил прокурор. — Когда они становятся длительными то, во — первых, они теряют свою силу, а во — вторых, они могут отразиться на народе, нравы которого воспитываются законом.
-Эта казнь — временная мера, уверяю вас, господин прокурор. Временная мера — мера суровая. Она должна сломить преступную волну, она должна сломить уродливые явления и после отойти в вечность.
-Ответьте мне откровенно: вас, лично вас самого, Дмитрий Филиппович, не воротит от всего этого?
-От чего этого? Договаривайте. — генерал сделал непроницаемое лицо.
-От лжи.
-Не воротит. Как и вас, иначе и не затеял бы я с вами этот разговор. Разве не ведомо вам, как скверна разъедает наше государство?
-Скверне не мстят, ее вычищают.
-Работа такая у нас у всех, господин прокурор. Грязная. По этой грязи мы и идем. Поверьте, Россия сумеет отличить кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных врачей, применяющих самые чрезвычайные, может быть, меры, с одним только упованием, с одной надеждой, с одной верой — исцелить трудно больного. Скажу откровенно: что прежде всего нужно для того, чтобы удержать имперское здание? Нужны новые кадры борцов, нужна полная перегруппировка всех живых сил страны, нужно появление людей нового типа и преисполненных новою волей. Вы согласны?
Не дожидаясь ответа прокурора, генерал подошел к священнику, за плечи обернул:
-Идите, идите, батюшка, идите…
Отец Варсонофий пригнулся, мелко — мелко закрестился, крест прижал, оглянулся, и безмолвно, бочком отступил к фургону.
-Голубчик вы мой, — Дрозд — Бонячевский почти ласковым, елейным голосом, обратился к измученному приговоренному. — Посмотрите на себя внимательно. Вы — революционер. Одни, революционеры — утописты. Добиваются революции потому, что сознают — их общественный идеал так далек от действительности. Что от основ существующего порядка к нему не может быть легального перехода. Ее может хотеть и тот, кто не стремясь ни к чему невозможному, в своем нетерпении хочет всего и сразу и потому предпочитает медленному и верному пути эволюции хотя и рискованный, но зато, как ему кажется, более быстрый путь революции. Ее принимают и те, кто на существующий государственный строй смотрят так безнадежно, что не верят в возможность его улучшения, считают его клеткой, которую нужно разбить, чтобы выйти на волю. Те, наконец, у кого главный движущий стимул есть ненависть к существующему порядку, кто разрушение его ставит самостоятельной целью, не задаваясь вопросом, что будет потом, как на войне, прежде всего стремятся к победе не помышляя об условиях мира. Это, голубчик мой, главные разновидности серьезных и подлинных революционеров. Есть и другие, так называемые революционеры по недоразумению. Есть честолюбцы, которые любят саму обстановку революционных переворотов, так же как иные любят военное дело. И войны, и революции предъявляют спрос на особые свойства характера, открывают для тех, кто одарен этими свойствами перспективы исключительных успехов и возвышений, дают им из «ничего» сделаться силой. Поэтому есть профессиональные революционеры, как есть профессиональные любители военного дела, которым в конце концов все равно за кого и за что воевать. А кто вы?
-Я? Я не знаю, право… — Брауде был совершенно сбит с толку и ответил сбивчиво. — Но, именно здесь и именно в такую минуту, вы решили порассуждать о главных разновидностях серьезных и подлинных революционеров?
-Да, где — то вы правы, все как — то времени не было раньше об этом поговорить…Иные любят революцию «со стороны», из эстетики и снобизма. — продолжил Дрозд — Бонячевский. — Иные любят революцию « со стороны», из эстетики и снобизма. Это любители героического в жизни, ценители сильных характеров и ощущений, принципиальные ненавистники умеренности и осторожности, неустанно жалующиеся, что мирным путем ничего добиться нельзя, а когда им удается мирному пути помешать, с гордостью указывающие, что они оказались пророками подобные революционеры часто мечтают о революции лишь потому, что не дают себе труда подумать о том, что же из нее получится. И есть, наконец, «пушечное мясо» всех революций: озлобленные и желчные неудачники, которым в условиях обыкновенной жизни нечего делать, которые рады всякому перевороту уже потому, что если они на нем и не выиграют, то наверное ничего не потеряют.
Все это время приговоренный Брауде, ухмыляясь, зыркал во все стороны. Когда увидел, что палач петлю спускает с крыши, он внезапно забился у стражника в руках. Палач сделал мертвую петлю, просунул веревку сквозь скобу в потолке, а свободный конец ее прикрепил к столбу и крикнул:
-Есть!
Обреченного рывком подняли, поставили на стол, затем водрузили на табуретку, и прежде чем несчастный успел опомниться, шея его уже была в петле виселицы.
-У нас с вами есть еще пара минут, прежде чем вас удавят, и я хотел бы этими минутами воспользоваться, чтобы завершить свою мысль… — сказал генерал, глядя на Брауде снизу вверх. — В идеологии всех сторонников революций есть одно общее свойство, без которого революционером вообще быть невозможно; все они не дорожат старым порядком. Конечно, в отношении их к России целая гамма чувств, начиная с простого к ней равнодушия и кончая такой глубокой ненавистью, при которой одно уничтожение старого уже кажется «завоеванием». Ненависть к тому, что существует, может быть не менее действенной силой, чем преданность идеалу. Было бы несправедливо видеть в таком отношении к России отсутствие любви к своей родине, как это иногда говорят в порядке полемики. Нельзя заставлять любить недостатки, и в России есть много бессмысленного, жестокого и даже гнусного. Но в глазах людей революционного настроения эти недостатки до такой степени занимают первое место, что покрывают собою все то, исторически необходимое и полезное, что в державе было за этими недостатками скрыто.
-К чему вы мне все это говорите? — тихо спросил измученный ожиданием смерти приговоренный.
-Голубчик, должно быть ясно для всех, что в стране, насыщенной злобой, социальной враждой, незабытыми старыми счетами, в стране политически довольно отсталой, падение исторической власти, насильственное разрушение привычных государственных рамок и сдержек не могут не перевернуть общества до основания, не унести за собой всей старой России. Разве можно это допустить? Ну, вспомните, милейший, своих друзей и знакомых, оглянитесь мысленно на прожитую жизнь, — даже те, кто не хочет ничего утопического, стремящиеся к демократическим принципам, к идеалам, к которым медленно и с зигзагами, но все — таки неуклонно идет развитие русского государства, даже эти люди часто не боятся, а жаждут революционного переворота! В нем они видят единственную гарантию серьезного, не фиктивного улучшения, устройства жизни на постоянных народных началах. Старый строй им органически чужд. При нем они себя дома не чувствуют. А ведь таким путем к преобразованию страны идти нельзя. Воля народа или, что тоже — воля его большинства вообще очень редко ценит уважение к праву. Нужно большое политическое воспитание, чтобы народ понимал благодетельное значение «права», которое ограничивает его собственный произвол.
-Именно поэтому вешаете вы, и вешаете без суда? — несчастный произнес эти слова с вызовом.
-У нас с вами в данный момент коллизия такова: или мы вас, или вы нас. Другого пока не дано…И да, еще один момент… — Дрозд — Бонячевский будто бы спохватился, сказал озабоченно, но с легкой усмешечкой на губах. — Так сказать, в утешение вам…Знайте же — умираете вы за правое дело.
Палач Воробьев оттолкнул ногой табуретку, которая с грохотом полетела на пол гаража…Тело Брауде, извиваясь в предсмертных судорогах, повисло на веревке…
…Когда все было кончено, и казненных, смотревших стеклянными взглядами, волоком протащили к хлебному фургону, священник широким жестом крестил покойников и заунывно забормотал молитву. Воробьеву подали бутылку вина. Сняв маску, вино он пил залпом, обжигаясь, словно кипятком, еле переводя дыханье…
Среда. В лето 7436 года, месяца сентября в 6 — й день (6 — е сентября 1928 года). Седмица 16-я по Пятидесятнице, Глас шестый.
Москва. «Шпалерка»*. Следственная часть на Шпалерной улице.
-…Подними руки! — скомандовала надзирательница.
Голая, озябшая, перебирая ступнями по цементному леденящему полу, Даурия подняла руки.
-Открой рот. — грязные пальцы пощелкали по зубам, обрыскали щеки. — Одевайся!
Надзирательница подтолкнула ногой распотрошенную одежду. Даурия оделась.
-Иди вперед, руки за спину. В камере веди себя тихо, смирно. Кричать, петь, громко разговаривать, спать днем, перестукиваться запрещается. За нарушение дисциплины — карцер.

Даурия шагала по коридору, присматриваясь к заплесневелым, в бордовых проплешинах стенам, к веревочным дорожкам на каменных плитах пола, к дверям камер, закрытых на железные засовы. У камеры номер 75 надзирательница остановилась, отдернула засов, железная дверь приоткрылась. Надзирательница толкнула Даурию в спину, и та очутилась в промозглой темноте. Простояла несколько мгновений, прислушиваясь к собственному сердцу, потом раскинула руки: кончики пальцев коснулись склизких стен. Под потолком загорелась маленькая лампочка — желтая капля во мраке, — и Даурия увидела две кровати, тумбочку между ними, донельзя почерневший, отдающий зловонием ватерклозет и умывальник. При желтом мертвящем свете проявилась решетка на окне, оловянная кружка на тумбочке.
Голые, липкие стены, дышащие безмолвием, угнетали. Даурия присела на узкую кровать с дурно пахнущим матрацем. Она все еще не могла успокоиться и находилась в ожидании чего — то непонятного и очень скверного для себя.
Даурия разбила витрину чайного магазина в Колпачном переулке, возле английского посольства, вовсе не преследуя грабежа, заявив, что желала лишь этим актом показать иностранцам «истинное состояние дел»: витрину она разбила, на нее бросилась полиция, она побежала, кого — то порезала осколком стекла.
Она была, на первый взгляд, проста и серьезна. Требовала разбора своего дела без проволочки, заявила сразу: «Я ничего не скрываю, ни от чего не отказываюсь. Судите или выпускайте». Это свое требование она подкрепила голодовкой, которую объявила в первый день пребывания в тюремной камере.
…Вечером Даурию из камеры спустили в подвал. В подвале пахло кислым, отчего нехорошо становилось под сердцем. Так кровь пахнет.
Склонный к полноте, бледный моложавый мужчина, сидевший за крепким, из добрых струганых досок, столом, кутаясь в теплый плед, сказал необычайно приветливым, тихим, мягким голосом, производившем удивительно приятное впечатление:
-Вы проголодались, верно? Я заказал обед. Прошу вас, присаживайтесь к столу.
В подвал принесли шашлык, сухое вино, к нему два бокала. Полноватый господин аккуратно разлил вино в бокалы, один придвинул к Даурии и еще плотнее закутался в плед.
Она приложила пальцы к своему бокалу:
-К сожалению, вина не пью.
-Это саперави, вино преотличное. Может, пригубите?
-Хорошо, я пригублю. — сказала Даурия, каким — то отрешенным взглядом посмотрела на свой бокал, и отпила маленький глоток.
-Вот и славно. — удовлетворенно потер руки полноватый господин. — Вино и в самом деле прекрасное. Коли есть не хотите — не ешьте. Теперь вот что: Я вам помочь хочу. Буду задавать вопросы. Вы станете на них отвечать. Говорить будете подробно, не утаивая, делясь сокровенным и потаенным…Потом я сделаю вам предложение и вы его примете, без оговорок и условий.
-Уверены, что соглашусь? Да еще без оговорок?
-Уверен. Надеюсь, понимаете, что сие место, — господин выпростал из — под пледа руки и обвел ими пространство вокруг, — не располагает к какому — либо иному варианту, кроме того, что нужно мне? Да и времени у нас с вами в обрез.
-Не понимаю вас.
-Все вы прекрасно понимаете, сударыня. Моя фамилия — Чечель.
-Очень приятно, пан, очень приятно… — с бесподобной местечковой учтивостью отозвалась Даурия.
-Итак, я стану задавать вам вопросы, вы, голуба моя, станете на них отвечать.
-Я, боюсь, ничем не могу вам помочь.
-Ошибаетесь. Можете.
-Я повторяю, что ничем не могу вам помочь.
-Можете, голуба моя. — елейным голосом сказал полноватый господин. — Сразу хочу предупредить: история о том, как вы решили разбить витрину у английского посольства, чтобы этим громким актом всему миру показать «истинное состояние дел» в душной, несвободной России, меня не интересует. Собственно, и баллада про то, как перед вами кто — то ярко развил перед вами теорию борьбы с царским режимом путем террора, про его доводы, столь убедительные, что вы, сударыня, не колеблясь, согласились встать в ряды активных «работников», меня совершенно не занимает. Видите, как много мне известно? Прошу простить, я неловко выразился. Все знать про вас, я, конечно, не могу. Я и себя — то, если честно, не знаю до конца. Вернее будет сказать — я многое о вас знаю. Для начала, чтобы не томить друг друга попусту, назовите свое подлинное имя. После расскажите, как вы надумали уходить из России и кто на сие надоумливал. Да, сразу скажу, откровенно, — уйти бы вам дали, но так себе, по баловству, и по неспособности нашей. Ушли бы вы, как говорится, ни за что, ни про что, и даже пребывая в заграницах, при всей склонности ставить себя на ходули, вы ни разу не смогли бы толком объяснить причин и цели своей комической экспатриации. Разве не так?
-Может, обойдемся без фальшивой приторности?
-У нас принято говорить вежливо, у нас — это не в сыскной полиции, а в Департаменте Государственной Охраны.
-В сыскной сразу в лицо заехали бы. — усмехнулась Даурия.
-В самом деле? Грубо. — господин, закутанный в плед, наигранно — осуждающе покачал головой.
-Как есть.
-Таких как вы, я достаточно повидал в своей жизни. — сказал полноватый господин, сделал паузу, глотнул вина, продолжил, — и баб, и крепких ребят, прямо скажу. И башковитых, и хитрых. И изворотливых. Даже упрямых видывал, с характером. И характера было у них до черта, простите за вульгарность, и упрямства не занимать. Вы пока на стульчике сидите, это еще не пыточный станок. Но я вам искренне советую не упрямствовать, чтобы не доводить все до красной черты…Есть здесь паренек, который усталости не знает. Будет он работать с вами с утра и до вечера. Сутки. Двое. Надо будет — трое суток. А в случае чего, найдутся еще люди, кто тоже не против заняться этим делом. Даже и дамы есть.
-У вас сейчас только пугают? — недоверчиво хмыкнула Даурия.
-Как вам сказать, сударыня? Вы и так напуганы пребыванием в нашей пенитенциарной системе. Я просто предупреждаю вас. Есть у нас мастера и изобретательные специалисты. Например, у одного такого мастера имеется один любопытный инструмент — длинная ременная, с цинковой проволокой плеть, а на самом конце — кусок свинца со спичечный коробок; через плечо, вперехват, она достает до поясницы. Бывалоча, зайдет к кому — нибудь в камеру, так просто, поговорить. «Ну, здорово». — говорит, — «Как мил — друг?» и плеточкой малость подметет. «Ну, как характеризуешь положение»? — и снова плеточкой…А еще есть способ, у него же — сажает, стервец, человека на шомпол и делает это, надо отдать справедливость, поистине с детским увлечением.
-После ваших слов у меня нет никакого желания с вами сотрудничать.
-На вашем месте, голубушка моя, я не зарекался бы.
-Не имею ни малейшего представления о чем вы говорите.
-Паспортную книжицу вам кто выправлял?
-О чем вы?
-Полагаю, для экономии времени, устраивать очное свидание с подлинной Верой Семеновной Хазиной мы не станем? Но, если будете настаивать, что ваша фамилия Хазина, отвезем вас в те края, где живут ваши, якобы, родители и прочая многочисленная родня. Очная ставка, смею заверить, мигом раскроет вас…Итак, о паспорте. Где взяли?
-В Кожевенных рядах. — ляпнула Даурия и с досады, что ляпнула не подумавши, чуть не прикусила себе губу. — Там не только паспорт — отца родного купить можно…
-Верно.
-Прежний свой потеряла. Может ли человек жить без паспорта? Я знаю, вы скажете — нет. И я так думаю. Я пошла и купила себе новый паспорт.
-Много отдали?
-Синенькую.
-Пять рублей? Дешево.
-Нет, это большие деньги.
-Отдали торговцу коврами Асафу поди? — Чечель увидел, как при этих словах девушка вздрогнула. — Интимные связи с мужчинами имеете?
-Я не стану отвечать на подобные вопросы.
-А с женщинами? Женский пол любите?
-Отвечать не стану.
-А пятирублевку кто дал: англичанка сладкая, да?
-Не понимаю.
-Все вы уже понимаете. И зачем же вы витрину били в Колпачном? Вам надо было на Варварку идти, к британской торговой миссии. Там ваша ненаглядная служит…Говорю же, мне много известно — про вас, вашу сладкую подругу, дочь Евы, с таким милым лондонским акцентом, про дурака торговца, который вас за ту же пятерку порезвиться пускал на персидских коврах ручной выделки. А сам в это время вас фотографировал, слова ваши томные, — «Ах, Кристиночка, ах, голуба». — записывал…
-Это бред.
-Нет. Фотокарточки показать? Пикантно, знаете, вышло, хотя из этого бухарского дурака Асафа фотограф дрянной получился. Зато достоверно. Да, я вас понимаю, конечно…Когда заговорит страсть, умолкают доводы совести, добродетели, благоразумия…К тому же, это отношения между мужчинами вызывают в обществе осуждение и неприятие, а женскую гомосексуальность практически не замечали, в том числе поэтому мы знаем о знаменитых лесбийских парах гораздо меньше. Это отражалось и в уголовном праве: если отношения между мужчинами карались законом, то аналогичные отношения между женщинами в законодательстве даже не упоминались. Только в требнике. Ежели слышали: «Девицами друга на другу лазила еси блудити?», «Или иная подруга тебе рукою блудила а ты у ней тако ж?». За этот грех назначалась епитимья в виде сорокадневного поста. Епископ Новгородский Нифонт в XII веке, в «Вопрошении» дал ответы на некоторые бытовые вопросы, тревожащие мирской народ, а в частности, высказался о лесбиянках. Даже Нифонт не видел ничего постыдного в женской однополой любви. И наказание для женщин, уличенных в однополых связях, было мягче, нежели за внебрачную связь с мужчиной, особенно, если женщина оставалась девственницей. «Если семя изыдет, но девство цело», так кажется….Папиросу?
-Благодарю, нет.
-Такая привлекательная женщина…
-Это имеет отношение к предмету нашей беседы, господин не знаю как вас там?
-Имеет отношение к моей романтической натуре. Слабость, о которой я всегда сожалею. Почему красивые женщины так упрямы? Всякий раз задаю себе этот вопрос и не нахожу ответа. Может, мало драли? Учтите, дальше наш разговор будет продолжен с пристрастием.
Полноватый бледный мужчина сухо, отчетливо, щелкнул пальцами и в подвал вошел широкоплечий улыбающийся парень…
-Сударыня, некогда мне с вами политесы разводить. Давайте наскоро заглянем в ваше обозримое будущее. Только представьте себе: за каких — то полтора, а может быть два, последующих часа вы погрузитесь в туман болезненных мыслей, где все отчетливее будет вырисовываться одна навязчивая — бездна, вы летите в бездну, и камни сыплются вам вслед. Вы станете подавлять крик, тщетно ища спасения в ускользающем сознании. Мозг вас больше не будет успокаивать, не будет управлять вами, а будет пугать. Вы станете метаться, панически боясь, что вот — вот вас станут снова и снова терзать, подвешивать на блоках, а потом увезут, чтобы умертвить вдали от дома и от родных. Время будто бы перестанет существовать для вас. Но вдруг, внезапно, как молния, в темный мир безумия и отчаяния вернется мысль. Извиваясь на полу подвальной камеры, как бы исполняя чудовищный акробатический этюд, голая, в стеблях соломы из разорванного матраца, вы все увидите вновь — этот же подвал, этот стол же с вином и шашлыком, меня, равнодушно взирающего, его вон, широкоплечего экзекутора…Увидите себя — обнаженную, в одних чулках, дрожащую и всхлипывающую…Вы почувствуете сладкую, томительную боль ссадин на теле…
-Не боитесь, что начну рассказывать обо всем том, что вы со мною здесь вытворяли?
-Нет. Уж столько про наши застенки понаписано, правдивого, а больше все же лживого, что одним свидетельством больше, или меньше — не суть важно.
-Вы ведь меня завербовать хотите? Сделать меня своим тайным осведомителем? Провокатором, да?
-Не скрою, я хочу получать от вас некоторые сведения. И я хочу вас привлечь к сотрудничеству. Хочу, чтобы вы стали выполнять наши поручения.
-Думаете, соглашусь?
-Вы сегодня же подпишете документ и станете нашим агентом. Документ — это так, пустая формальность. Наши доверительные отношения мы, воленс — ноленс, должны скрепить неким договором. По закону я должен с вас письменное обязательство о сотрудничестве взять. Это мы с вами и сделаем, а касаемо остального — заводить на вас служебный формуляр, дело, а паче того каким — либо образом бросать тень на ваше имя, заставляя писать донесения и расписки — не стану. Канцелярщину разводить не будем. Да, я хочу, чтобы вы спервоначалу поделились кое — какими сокровенными, вам известными, информациями, а после мы вместе эти информации употребим к собственной и взаимной выгоде. Такие особы, как вы, такой штучный товар, требует ювелирного подхода.
-Не очень хитры вы с подходами…Наивны…
-Чем плохо? Наивность — это свидетельство чистоты души. Тем паче, желаю произвести на вас впечатление простотой и бесхитростностью. Ваша будущая работа — золотое дно. И подход должен быть соответственный. Доверительный.
-Ну — ну…
-А мы грехи вам отпустим, прошлые и будущие.
-Ежели я вам нужна, зачем вы так жестоко меня ломаете? — тихо спросила Даурия.
-Голубушка, не ломаю я вас, что вас ломать? Вы свою прежнюю жизнь знаете лучше, она у вас и так сплошь ломаная. Вы нынче в «Яме» квартируете? Легко затеряться…
-Бывали там?
-Знаю, наслышан. Премного наслышан. «Яма», что ж, — своеобразный московский аналог парижского Монпарнаса, куда также приезжали писатели, скульпторы, художники, поэты и музыканты, чтобы найти себе дешёвую квартиру или комнату, в доходном доме купчихи Авдотьи Ямовой, в «Яме», превратившемся в общежитие с весьма демократическим укладом, по меркам патриархальной Москвы, жизни. Домишко, прямо скажем, наружности неприглядной и скромной, но жизнь в нем текла шумно. День и ночь распирало его песнями, гамом и хохотом, усердно производимыми сотней другой жизнерадостных ребят мужского и женского пола. Мимо окон проходили с опаской: весной оттуда выскакивала яичная скорлупа, осенью арбузные корки, а окурки и чайные отплески летели безотносительно ко временам года. Обитателям дома вечно грозили и полицией, и гневом божьим, грозили и перестали — «богема» явление беспорядочное, и никакой законности неподдающееся. В «Яме» той во множестве представлены педерасты, лесбиянки, морфинисты, кокаинисты, просто алкоголики всех сортов, пьяневшие от двух стаканов сомнительного трактирного пойла, именуемого «бормотухой», и все эти люди, задыхающиеся от испорченных легких, неизлечимого чахоточного кашля, с первыми признаками белой горячки, сифилиса, хронических воспалений и тысячи других болезней, вызванных нечистоплотностью, наркотиками, водкой, за немногим исключением, верили, твердо были убеждены, что рано или поздно их оценят. И лишь немногие знали, что не стоило питать несбыточных иллюзий, понимали в глубине души, что ничего никогда не выйдет ни из картин, ни из стихов, ни из романов, потому что нет денег, нет знаний, нет таланта…А что есть? Полуголод, ликер, кофе — крем, сутенеры, неврастеники, непризнанные гении, наркоманы, страдающие манией величия и хронические больные…
-Не ломаете, тогда зачем так?
-Я желаю заставить вас выстрадать согласие на сотрудничество. — вздохнув, кротким голосом сказал полноватый господин. — Полнота истощания предваряет полноту совершенства…
==========================================
«Шпалерка»*? (жарг.) — Прямо за зданием Московского страхового общества «Якорь», что на Балчуге, в Космодамиановском переулке, в бывших шпалерных мастерских, переделанных и перестроенных архитектором Гунстом, располагалась «Шпалерка» — следственная часть Департамента Государственной Охраны с внутренней тюрьмой.
Среда. В лето 7436 года, месяца сентября в 6 — й день (6 — е сентября 1928 года). Седмица 16-я по Пятидесятнице, Глас шестый.
Москва. Малый Толстовский переулок.
…От Малого Гнездниковского до Арбата, до Собачьей площадки, дворами и переулками старой Москвы идти было долго и трудно, Сергей Владимирович Чечель весь исчертыхался…От Собачьей площадки Чечель неспешным шагом прошел мимо особняка купца Мазурина, построенного с торгашеской пышностью, в псевдоготическом стиле, пересек Спасо — Песковскую площадь — небольшую, уютную, привлекательную, с таким же небольшим сквериком возле церкви Спаса Преображения, «что на Песках», и свернул в Малый Толстовский переулок. В конце улицы блеснул свет, донесся какой — то шум. Чечель прислушался. Сквозь людские голоса слышалась хриплая музыка: патефон играл «китаяночку». Чечель подошел ближе; над стеклянной дверью висел желтый фонарь, освещая грубо намалеванное блюдо с пирожками, и надписью: «Закуски разныя». Это была суточная пивная «Нырок».
Вернувшись со «Шпалерки», Чечель весь остаток дня просидел в «английском столе», до позднего вечера, нумеруя дела, заверяя их, а отработав то, что полагалось по службе, остался еще для того, чтобы писать порученные ему отношения и служебные рапортички, и делая все с удовольствием, забыл пообедать на службе в столовой — у него ни на что больше не оставалось сил, нестерпимо захотел есть. И еще больше он захотел выпить. Чечель повел головой на пивную и шагнул туда.
Пивная была полна простонародья, таксистов, солдат, поденщиков с Арбата и со Смоленской — Сенной. Попадались и ломовики, и палаточники. Женского пола почти не видать, в подобные пивные ходят обычно с приятелем. Только у некоторых столиков сидели женщины. Больше всего было солдат. По стенам тут и там висели плакаты, рисованные очень аккуратно в две краски, с завитками: «Раки», «Лицам в нетрезвом виде ничего не подается», «Неприличными словами просят не выражаться», «За разбитую посуду плата взимается с посетителей», «Во время исполнения концертных номеров просят не шуметь». «Отлично, значит здесь и эстрада». — подумал про себя Чечель.
-Водки. — коротко сказал он, усевшись за длинным столом, за которым уже пили чай два солидных пожилых неразговорчивых таксиста, в дальнем углу задымленной пивной. Сев, пристроил самшитовую трость, перевел дух.
Дверь в пивную поминутно открывалась, и входили все новые люди. От табаку, дыхания, пара, от начищенной медной кипятилки в воздухе стоял жирный туман, напоминавший баню, и, как в бане, было тепло, очень тепло, размаривающее тепло.

За столик подсел третий таксист, помоложе, рябой. Он удивил Сергея Владимировича низким ростом, щуплостью и узкогрудостью. Чрезвычайно изрытая оспой кожа на его лице была какого — то серо — кирпичного оттенка. Низкий, заросший, как бы «надвинутый» на брови лоб и свисающий нос придавали лицу грубое, жестокое выражение. Маленькие, с желтыми белками глаза излучали необыкновенную силу. У Чечеля было неприятное чувство, что кто — то за ним наблюдает. Для него это было совершенно новое ощущение. В голове билась насмешливая мысль, будто кто – то отдает приказ: «Дайте мне его дело…Тэк — с…Женат…плоскостопие…». За годы службы по контрразведывательной части ему бесчисленное количество раз приходилось следить и наблюдать за подозрительными особами. Но только теперь он понял, что это значит, когда за тобой следят, знать, что ты находишься под непрерывным надзором, что кто — то наблюдает за каждым твоим движением, что кто — то постоянно держит тебя в поле зрения и следит за каждым твоим шагом.
Чечель поерзал. И как раз напротив него, у стеночки, скромно устроилась какая — то интересная очкастая барышня, в легком летнем платье и шерстяном жакете. Сквозь маленькие очки смотрели прозрачные глаза. Она сняла головной платок и оказалась рыженькой — рыженькие Чечелю всегда нравились. Потом рыженькая барышня вынула из сумки зеркальце и, посмотрев в него, вытерла лицо. Лицо было чистое, городское, именно такие лица Сергей Владимирович Чечель любил. Вытерев лицо, она подняла глаза от зеркальца, поглядела на Чечеля внимательно, и слегка усмехнулась. И глаза были именно такие, как надо, — спокойные, серые, чуть — чуть с празеленью, как стоячая вода.
Совсем очнувшись, Чечель подозвал полового и спросил, есть ли у них что — нибудь горячее. Горячее было: рубец и яичница из обрезков. Заказав яичницу, Чечель внимательно оглядел женщину, которая теперь показалась ему портретом царицы. Женщина была совсем молода, миловидна, рот у нее был очень красный и слегка припухший.
Половой принес заказанный барышней чай. Чай отдавал тряпкой, мелко наколотый сахар был серого цвета. Отпив, она снова подняла глаза на Чечеля и усмехнулась снова. Сергей Владимирович тоже усмехнулся, сам не зная чему, и с досадой почувствовал, что, как дурак, краснеет и плохо улавливает беседу наблюдаемых объектов.
Над головами плавал туман. Шум, смех, возгласы, пьяные жалобы, хлопанье пробок. Но вдруг на маленьком помосте, именуемом эстрадой, появился конферансье и возгласил:
-Итак, мы начинаем концертное отделение. Сейчас артистка Ушакова исполнит романс «Если розы расцветают…». Прошу соблюдать тишину…Артистка Ушакова.
Конферансье зааплодировал и знаками предложил публике сделать то же. Публика в чайной вяло поддержала. Артистка Ушакова, женщина весьма полная, сильно декольтированная и уже не молодая, тяжело выкатилась на сцену и запела:
«Так и вы, медам, спешите,
Каждый миг любви ловите.
Юность, ведь, пройдет,
И красота с ней пропадет»…
Ее проводили довольно молчаливо. Зато разбитной мужчина, выскочивший следом за артисткой Ушаковой, и фамильярно здоровающийся с публикой, весело подмигивающий каждому в зале, сорвал дружные аплодисменты. Его амплуа оказались частушки с чечеткой.
На улице начался дождь. Мелкий как пыль, он оседал на крыши домов, на тротуары и на спины прохожих. Вокруг фонарей поблескивали мокрые камни мостовой.
-Парочку позволите? — спросил половой с перекинутой через руку грязной салфеткой.
-Что?
-Парочку! Пива — с.
-Изволь.
Половой неспешно, вразвалочку, отправился исполнять заказ. Чечель не спеша нашарил в кармане портсигар, чиркнул спичкой, закурил и дал спичке догореть. Теперь можно было посмотреть публику. Чечель прислушивался к разговору таксистов за столом. Тот, что с рябым лицом, осушил залпом кружку пива и рассказывал:
-В среду мы значит, хоронили Спирина, это тот, что в Жулебинских Выселках перевернулся…Да — а! Купили, значит, пуд черного хлеба, полпуда ситного, да — а…Полпуда колбасы, селедки, конечно, фунтов пятнадцать, да — а…Ну и ведро чистой…
Соседи слушали внимательно, прихлебывая из кружек. Чечель еще раз оглядел зал пивной. Чечеточник — куплетист продолжал радовать публику:
«Жена с мужем подралися,
Подралися, развелися,
Пополам все разделили,
Пианино распилили.
Тай — та, та — ри, та — там,
Тай — та, та — ри, та».
Чечель собрался уходить, но тут на эстраде выстроились человек семь. Впереди уселись на табуретках два гармониста. Все в синих поддевках, а регент в широких шароварах, сапогах гармошкой, был молодцевато подпоясан серебряным кушаком. Он взмахнул камертоном, и крайний справа тенор вывел звонко и высоко, в особенности на последних нотах:
«Полюбил всей душой я девицу
И готов за нее жисть отдать,
Бирюзою украшу светлицу,
Золотую поставлю кровать…»
По опыту своему Чечель знал — сейчас кто — нибудь из публики не выдержит и подтянет, и если он еще не сильно под мухой, то ничего, но ежели же выпил изрядно, то проорет на всю чайную, совсем невпопад и долго еще будет тянуть первый куплет, хотя хор уже перешел на второй…
-Беда с этими спичками — опять забыла. — вполголоса, ни к кому не обращаясь, сказала барышня, вынимая шикарные, «пажеские» папиросы и надламывая длинный мундштук как раз посередине.
Заметив, что Чечель смотрит на нее, женщина тоже на него поглядела — сперва мельком, потом, скользнув по его костюму и часовой цепочке — пристально и многозначительно. Неожиданно Чечель представил, какое, должно быть у этой женщины твердое тело, и какая белая, горячая кожа. Разумеется, она была проституткой, — подумал Сергей Владимирович, разумеется, не было ничего легче, если бы он захотел, пойти сейчас с ней. Да, это было бы просто и легко. Да, наверное, у нее была белая, горячая кожа, и тело твердое и гладкое. Сам удивляясь своему спокойствию, Чечель слегка улыбнулся женщине и недвусмысленно показал глазами на дверь. Она поняла его взгляд, вспыхнула от негодования, вмиг став пунцовой, резким сердитым движением бросила папиросу и встала. Покачав головой, она положила на стол скомканный рублевик, и пошла к двери.
Чечель расплатился. И задумался. Прежде одна мысль об «этом» заливала ему душу сладким, тягучим непреодолимым ужасом, и вот он расплачивался, и был при этом совершенно спокоен.
Женщина ждала на улице под дождем. Чечель стоял у входа в пивную и размышлял. Женщина покраснела, одернула платье и жакет, едва уловимым жестом проверила, в порядке ли у нее пояс для чулок. Чечель нерешительно подошел к ней, не зная, с чего начать разговор. Но разговора и не пришлось начинать. Она сама тронула его за рукав и просто сказала:
-Для начала: вы хам и дурак.
-Ежели человек дурак, ему обязательно надо об этом объявить?
-Да.
-На дураков не обижаются, если они констатируют очевидное. — машинально ответил Чечель.
-Что?
-Ничего.
-Вы подумали обо мне невесть что! — возмущенно воскликнула женщина. Говорок у нее был детский — или бабий — скорый с захлебыванием, с чуть заметным пришепетыванием, «каша во рту». — А я же лишь чуть пожалела вас — такой вы были замордованный и потерянный.
«Ну, да, не иначе с глазами обоссавшегося пуделя». — подумал про себя Чечель, а вслух сказал:
-Нельзя мужчине говорить о его слабостях.
-Коль мужчина слаб, его никакими словами не исправишь. — мгновенно парировала женщина.
-Эге, да вы из тех, кто всегда держится как можно ближе к правде? — усмехнулся Чечель.
-Отчего вы пьете? — печально — устало спросила женщина, глядя не на Чечеля, а в сторону. — Вы пьяница?
-В данном случае большинством людей эта проблема решается неправильно. — завязавшийся у пивной разговор слегка забавлял Чечеля. — Истина, печальность, которую вы заметили и которой я не собираюсь отрицать, заключается в следующем: я пьяница не потому, что пью, нет, я пью оттого, что я пьяница…
-Сергей Владимирович, — внезапно сказала женщина совершенно нормальным голосом, без «каши во рту», и Чечель едва не вздрогнул от неожиданности. — Один человек желает поговорить с вами.
-Вот так поворот. — пробормотал Чечель. Ощущение, что кто — то за ним наблюдает, возникшее в зале пивной, не обмануло.
-Удивлены?
-Ошеломлен и растерян, я бы так сказал. — Сергей Владимирович ничуть не кривил душой.
-Так, идемте? — спросила женщина, беря Чечеля под руку. — За угол, вот сюда. Там ждет машина…
Они пошли молча. Молодая женщина, держа под руку прихрамывающего Чечеля, шла, тесно, должно быть, по привычке, прижимаясь к нему, и это Сергею Владимировичу было очень приятно. На ходу она немного переваливалась, и бедром толкала Чечеля — это тоже было приятно. Заметив, что идет не в ногу, он переложил из руки в руку свою трость, ногу переменил, слегка подпрыгнув на ходу, и женщина, откинув на бок голову, посмотрела на него и улыбнулась. Как раз они проходили мимо фонаря — свет упал ей прямо в лицо — и лицо ее показалось Чечелю белым, как бумага, печальным и детским. Он подумал, что если, не останавливаясь и не замедляя шага, притянуть к себе это детское печальное лицо, от него непременно будет пахнуть ванилью…
Среда. В лето 7436 года, месяца сентября в 6 — й день (6 — е сентября 1928 года). Седмица 16-я по Пятидесятнице, Глас шестый.
Москва. Малый Толстовский переулок. Москва. Угол Спасо — Песковской площадки и Трубникова переулка.
Черный автомобиль — крупная, старомодная модель «Hispano-Suiza Т48» с кузовом английской фирмы Мюлинер, традиционно больше использовавшаяся в государственных учреждениях, так как считалась надёжной машиной с низкими эксплуатационными характеристиками, стоял под дождем на углу Трубникова переулка. Сопровождавшая Чечеля барышня, не говоря ни слова, распахнула заднюю дверцу. Чечель взглянул на нее, женщина отрицательно покачала головой. Сергей Владимирович, криво усмехнувшись, неловко протиснулся в салон автомобиля. Сидевшего в салоне человека он сразу узнал.
-Как вам трюк с дамой?
-Неплохо провернули.
-Эге, клюнули. Это все мой шеф, Лопухин, надоумил. Слаб он по женской части, между нами говоря… Черт знает что вытворяет, ежели его распустить! Развратный хрен! — генерал Дрозд — Бонячевский помотал головой и залился тончайшим фальцетным смешком. — Раз как — то так случилось, что на Рождество он на три дня один в доме остался, — жена куда — то там в заграницы упорхнула, по модным магазинам пошляться. Приезжает она обратно, натурально вечером — весь дом освещен, а в нем Содом и Гоморра: полны комнаты девок, все пьяные, пляшут и поют, и среди них князюшка в виде Адама всякие па выделывает…
-Верно, ушиблен одним местом? — помолчав, спросил Чечель.
-Ушиблен, верно! — с убеждением, комически всплеснув руками, воскликнул Дрозд — Бонячевский. — Все под Боженькой, все ходим, а ему, видно, такая планида дадена, значит. О чем говорить с вами станем, догадываетесь?
-Откуда мне догадаться — то? — Чечель пожал плечами и равнодушным взглядом посмотрел на генерала. — Да вас и не узнать, генерал…Особо готовились ко встрече со мною?
-Что, сильно заметно? — генерал рассмеялся, негромко, но с чувством легкой досады.
-Есть немного.
-Почувствовали таки? — засмеялся генерал. — Старею…
-Верно торопились?
-Я лишь подстраховался на всякий случай. С полчаса назад я проделал в туалете неприметной, средней руки, гостиницы «Берлин» — с простенькими меблированными комнатами, у Серпуховской заставы, несколько замысловатых па. — не очень охотно пояснил Дрозд — Бонячевский. — Сначала вставил в рот боксерскую капу, за обе щеки положил ватные тампоны, отчего лицо приобрело зеленовато — одутловатый цвет.
-К чему такие сложности, Дмитрий Филиппович? — несколько фамильярно поинтересовался Чечель.
-Говорю же, на всякий случай. В России обычно так: личные перемены в государевой администрации совершаются по неизменной формуле — преемники бездарнее и безличнее своего предшественника. Поэтому я стараюсь быть разнообразным. Тогда, авось, по — прежнему буду нужен. Я рад вас видеть, Сергей Владимирович. Это ж сколько мы с вами не свидывались — то, а?
-Почитай, года два. — ответил Чечель, изобразив на безразличном лице подобие дружественной улыбки.
-Два года? — изумленно, совершенно по — стариковски, пробормотал генерал. — Шутка ли?
-Начальство имеет привычку всегда вспоминать обо мне тогда, когда я этого менее всего ожидаю.
-Вижу, на таксомоторе не ездите принципиально? Все пешком норовите? А как нога?
-Ничего нога, благодарю. — сдержанно отозвался Чечель, принимая правила игры генерала, всегда начинавшейся с «пристрелочной» беседы. — На таксомоторе, вы правы, не езжу принципиально.
-Дорого выходит?
-Не знаю даже сколько сейчас берут за версту. Но пусть вас не волнует этих глупостей. — ответил Чечель с едва уловимой еврейской интонацией.
-Девять копеек берут. — хмыкнул в ответ Дрозд — Бонячевский.
-Разорение, чистое разорение. — Сергей Владимирович покачал головой.
-Что нового? Чем живете — можете?
-Разве вы не знаете?
-Бросьте ершиться.
-В отсутствии настоящего дела помаленьку служу…
-Удачно?
-По — всякому. Главное — интересно.
-А я вот…Кумекаю сейчас над одним дельцем. Пока исключительно в виде версий и комбинаций. — обтекаемо сказал генерал.
-Уже кое — что. Когда подозрений становится меньше, это упрощает задачу.
-Иногда задача слишком проста и желание ее решать пропадает.
-Но у вас, Дмитрий Филиппович, не так? Желание не пропало?
-Пока нет.
-Хорошо.
-Ну и ладненько. А я хочу вам предложить сотрудничество, Серж. Тряхнуть стариной, так сказать.
-Не в дружбу, но в службу, так что ли?
-Иначе — то как? Об том и скорблю. — вздохнул генерал.
-После того, как выгнали меня без пенсиона, да по третьему пункту?
-Ну, с того начнем, что «после того» не значит «вследствие того». И потом, не я вас выгонял. — примирительно — елейным голосом ответил Дрозд — Бонячевский. — А продолжим тем, что коль к делу государеву пристали, да прикипели, почему бы и дальше вместе не послужить?
-Я такие точно речи слыхивал не раз и был к ним глух. Чего ради я теперь должен свое мнение переменить? Что изменилось?
-Только тем и красна жизнь, что стоишь на своем посту, не так ли, Сергей Владимирович?
-Ну, пожалуй, что так.
-Вы обиду на меня затаили. Но вы не успокаиваетесь, вы служить хотите. Настоящего дела хотите. И не абы где, по переулкам за дипломатами шнырять и в мусорных ведрах копаться, а в настоящей контрразведке. Или я ошибаюсь?
-Вы, Дмитрий Филиппович, это в расчет задуманной вами комбинации приняли? — спросил Чечель с деланной усмешечкой. — Поэтому мы с вами здесь? И поэтому наша встреча состоялась?
-Экий вы колючий, словно еж, — комбинация у вас уже…Не только поэтому.
-А почему еще?
-Подумалось, что Сергей Владимирович Чечель работать умеет тонко, изящно…А тут…дело сложное.
-В нашем ведомстве полно умеющих работать тонко и изящно. У нас целый государственный концерн по извлечению скверны и изводу воровской измены, который имеет возможность ассигновать миллионы на свои нужды. Но я? Я — то каким боком могу быть полезен? По сравнению с нашей махиной я всего — навсего маленький винтик. Как можете вы довериться тому, кто потерял форму и годится для выяснения амурных шашней и потасовок с пьяными иностранцами, и то лишь до той минуты, пока не попортят костюм?
-Не надо скромничать и прибедняться, Сергей Владимирович. — сказал генерал, слегка раздражаясь уже. — Но, собственно говоря, мне от вас содействие нужно не для беготни по крышам, сидению в засаде и, как вы сказали, не для потасовок с квартирными ворами. Мне от вас понадобится то, что вы умеете делать очень хорошо…
Дрозд — Бонячевский открыл дверцу автомобиля, махнул рукой, подзывая кого — то, и на водительское место, впереди, аккуратно уселась давешняя рыженькая барышня в круглых очках.
-Промокли? — участливо спросил генерал и женщина, не оборачиваясь, кивнула. — Простите меня, Бога ради. Сергей Владимирович, знакомьтесь — это Елена Львовна Гончукова. Надеюсь, вы сработаетесь, и Елена Львовна станет отличной помощницей для нас в задуманном деле.
-Будем знакомиться? — спросил Чечель, чуть подавшись вперед, к водительскому сидению, стараясь уловить запах ее волос.
-Будем. Хотя, на всякий случай скажу, что я хорошо изучила ваш послужной список, Сергей Владимирович. — ровным голосом, сказала женщина, по — прежнему не поворачивая головы.
-Серьезно? Ну — ка, пожалте справочку из формуляра!
-Ретивый вы! — засмеялся генерал. — Уверен теперь, мы сработаемся.
-Ага, сначала стерпится, потом слюбится. — выдохнул Чечель, внимательно разглядывая затылок Елены Львовны.
-Про «слюбится» поаккуратнее, Сергей Владимирович. — серьезно ответил генерал. — У Елены Львовны в больших поклонниках натурально московский палач числится…
Среда. В лето 7436 года, месяца сентября в 6 — й день (6 — е сентября 1928 года). Седмица 16-я по Пятидесятнице, Глас шестый.
Москва. Малый Толстовский переулок. Москва. Угол Спасо — Песковской площадки и Трубникова переулка.
-Про палача — это шутка такая? — слегка растерянно пробормотал Чечель.
-Не шутка. На полном серьезе. — сообщила Елена Львовна, по — прежнему не поворачивая головы. — Самый настоящий давильщик. Сегодня только двоих удавил в Аптекарском приказе…
-Когда же вы решите перейти к делу, а то чувствую, с прелюдией затянули?
-Нашу службу, наше ведомство, зачем — то стали превращать в затычку для каждой бочки. — сказал генерал Дрозд — Бонячевский. — Диапазон деятельности начал опасно расширяться. Все наше ведомство увязло в интригах и подковерных играх. Хотелось бы этого впредь избежать и сосредоточиться, наконец, на деле. На контршпионаже, чем, собственно, и должен заниматься Департамент Государственной Охраны. Согласитесь, Сергей Владимирович, контрразведка — понятие совершенно определенное. Это предупредительные действия, которые ведутся в отношении агентурной разведки противника, врага государства, угрожающего его безопасности извне или изнутри. Вместе с тем, я напомню слова знаменитого военного писателя и специалиста Клаузевица, писавшего, что единственное средство победить Россию для кого бы то ни было и когда бы то ни было заключается в том, чтобы воспользоваться внутренними несогласиями между народной массой и правящей властью, но что, следовательно, без таких «внутренних несогласий» она непобедима. И посему, политическая контрразведка просто обязана, во имя спокойствия державы, вести работу против опасного политического инакомыслия и, ежели возникнет необходимость, насильственным образом подавлять оппозицию с использованием самых изощренных и противозаконных методов пресечения деятельности, даже и разрешенной законом.
-Что вы подразумеваете под противозаконными методами? — спросил Чечель.
Ответила на этот вопрос Елена Львовна:
-Да все тоже: злонамеренное и недостойное, включая анонимные попытки разрушить семью, сорвать собрания, подвергнуть остракизму по службе, спровоцировать вражду между группами, за которыми ведется наблюдение, что может привести и к человеческим жертвам. Ежели надо будет для дела — мы найдем подходящее правовое прикрытие и…вмешаемся в события.
-Даже так?
-Да. — женщина кивнула.
-Верю. Вам верю.
-В настоящее время большой неожиданностью стал стремительный рост радикализма — аморфной коалиции молодежи, разночинцев и оппозиционно настроенной интеллигенции, поднимающихся на борьбу национальных меньшинств. — сказал генерал. — Это и озадачивает, и не на шутку тревожит сторонников концепции наведения порядка и поддержания оного любой ценой. Я лично склонен винить в этом правительство, решившее вдруг отойти от жесткой линии и принизить роль репрессивного аппарата. Теперь к делу: вы тот, кто двадцать четыре часа в день, семь дней в неделю, наблюдает за дипломатическими миссиями в Москве. Вы по вечерам «укладываете» своих подопечных в постель, а утром «будите» их. Вам известно об иностранцах из дипмиссий очень многое. Да что я вам рассказываю, Сергей Владимирович? Вы ведь, в «английском столе», занимаясь гордыми британскими дипломатами, внимательно слушали их разговоры, когда они считали, что находятся в своих квартирах одни, знали, когда и как часто они любили своих, а иногда и чужих, жен, знали, какие у них проблемы, какие мечты и какие политические взгляды. И я это знаю. Я знаю также о том, что они по большей части испытывают патологическую ненависть к нашему государству, к России. Для борьбы с нами они еще долгие годы будут подбирать по всему миру, и здесь, у нас, в России, все темное, продажное, готовое за тридцать сребреников на любую измену, на любое преступление.
-Ну — ну…
-Для британских джентльменов интересен всегда большой куш. Вот и возникла идея — дать им куш.
-«Подстава»? — спросил Чечель. — Сколь раз уж было…
-Не так давно были получены сведения из Лондона. — генерал насупился. — По линии политической разведки. Кое — кого, не скрою, потрясла их ценность. Есть все основания считать, что мы наткнулись на линию английской разведки, действующую в России и в ряде сопредельных стран. В числе прочего мы заполучили документы из британского внешнеполитического ведомства, в частности, выдержки из доклада о состоянии наших военных заводов с точными цифровыми данными о выпуске вооружений, по каждому заводу в отдельности. Уже здесь в Москве, было произведено расследование источников поступления в британское внешнеполитическое ведомство информации о нашей военной индустрии. Есть все основания полагать, что в верхах, в Кремле или в аппарате правительства орудует британский шпион. Мы знаем, что в Москве действует таинственный британский шпион, некто «Смит». Он, по всей видимости, был завербован Гарольдом Гибсоном — офицером Интеллидженс Сервис*, работавшим в Москве под дипломатическим прикрытием. Да вы, Сергей Владимирович, должны его помнить, вы же в свое время вели его разработку.
-Из торгово — дипломатической миссии?
-Именно.
-Помню, как не помнить.
-Год назад Гибсон был отозван в Англию. Своего таинственного информатора «Смита» он, тут уж к гадалке не ходи, передал преемнику — Малькольму Каррингтону. Да — с, так — то…Спервоначалу комбинация задумывалась как очередной канал по дезинформации британских джентльменов из разведки, действующих под дипломатическим прикрытием. Но внезапно меня озарило, что комбинация должна заиграть новыми красками и обрести очертания, без ложной скромности скажу, стратегической. Да — с.
-О братии любовнии! Не дивитесь начинанию, но зрите, каково будет скончание. — с ухмылочкой ответил Чечель невесть откуда взявшейся цитатой. — Не мне вам объяснять, дорогой Дмитрий Филиппович, что любая комбинация, а уж стратегическая и подавно, изначально имеет узкие места. И самой узкой частью является конечная цель.
-Вот вам и карты, как говорится, в руки, Сергей Владимирович. — ответил генерал. — Поколдуйте как следует над этой самой конечной целью. Люди уходят из миpa, начав что — то и часто очень важное и значительное. Где же они кончают начатое? Если бы историки задавались вопросом — иначе писалась бы история. Многие люди, а в особенности те, кто носит сюртуки и мундиры, в значительной мере реагируют на обстоятельства. А мы…Мы эти обстоятельства творим…И это будет нечто особенное для наших британских коллег.
-Что — то особенное?
-Да. Что — то такое, что позволило бы проникнуть к ним и увидеть то, чего мы до сих пор не видели, что — то такое, что помогло бы понять, чем бритты тут занимаются. Да и не только бритты.
-Сроки…
-Что, сроки? Вчера.
-Смешно, Дмитрий Филиппович. Я полагаю, что комбинация может затянуться по времени.
-Да? — озабоченно спросил генерал. — И сколь долго вы отводите под комбинацию времени?
-Год — полтора…
-Это несерьезно.
-У вас ведь были кое — какие наметки, Сергей Владимирович. — сказала Елена Львовна.
-Что вы говорите? Какие же?
-Я подняла некоторые ваши старые отношения и разработки. На этом можно выстроить недурственную комбинацию. Что — то мелькало у вас, интересное, хотя, в порядке критики должна заявить, что в основе своей, это не лишено было некоторой наивности, и основывалось на определенных нюансах, так свойственных русской интеллигенции.
-Забавно, что вы это уловили, Елена Львовна. — сказал Чечель. — Меня, знаете ли, всегда поражала легкость национального обезличения нашей интеллигенции и ее «умение» раствориться без борьбы, без вскрика, молча утонуть, словно с камнем на шее. Этот факт сам по себе обличает и предупреждает грозно о будущем. Знаете, кто первые русские интеллигенты?
-Кто? — генерал заинтересованно вскинулся.
-При царе Борисе отправлены были за границу — в Германию, в Англию, во Францию, — восемнадцать молодых людей. — ответил Чечель. — Ни один не вернулся. Кто сбежал неведомо куда, — спился, должно быть, — кто вошел в чужую жизнь. Один даже стал в Англии священником реформированной церкви и даже пострадал от пуритан за стойкость в своей новой вере. Осуждать их? Несомненно, возвращение в Москву означало для них мученичество. Подышав воздухом духовной свободы, трудно добровольно возвращаться в тюрьму, хотя бы родную, теплую, но тюрьму. Эти первые «интеллигенты», первые отщепенцы русской земли, непривлекательны, вы не находите?
-Пожалуй. — генерал слегка скривился. — В эмиграции все больше поют про ямщиков, причем непрофессионально, и все больше евреи…
-Хе — хе, тонко подметили. В самый корень зрите. Но вы, верно, все же наслышаны, что русская эмиграция в некоторой степени даже по — своему героична.
-Что?
-По — своему героична, говорю…У нее есть изгнание с поддержкой и сочувствием, пусть и мнимым, всей Европы. Но нет особливой поддержки и сочувствия здесь, в России.
-И, стало быть, эмиграция ищет выходы и контакты здесь? — уточнила Дарья Львовна.
-Разумеется.
-Эге, Сергей Владимирович, да вы уже и смысл комбинации ухватили и готовы прорисовать? — удивился Дрозд — Бонячевский. — Однако, быстро.
-Это все мои домашние заготовки, Дмитрий Филиппович, от прежних времен оставшиеся.
-А одна из домашних заготовок сейчас на «Шпалерке» приготовляется? — усмехнулся генерал.
-Хотите с ее помощью бриттам впарить дезинформации?
-С ее и с вашей помощью, Сергей Владимирович. Мы укнокаем сразу двух зайцев — одного английского и нашего, доморощенного, отечественного. — увлеченно сказал генерал. — Англичанам мы подсунем политическую организацию, чрезвычайно информированную о положение дел в стране, о внешнеполитических и внутриполитических шагах Москвы. Отечественным отщепенцам также дадим организацию. Политическую, разумеется. Ее сильный козырь — связь с русской политической эмиграцией, знание того, что происходит в России. Это для сливок политэмиграции весомо, это может стоить денег и внимания Запада. Не секрет, что русская эмиграция, даже наиболее организованная и решительная ее часть, ничего не сможет поделать с кремлевским режимом, не войдя в контакт с кем — либо из заинтересованных лиц в правительственных учреждениях Запада. Русский государь так силен, что повалить его, уповая на силы эмиграции и немногочисленного и распыленного подполья, никак невозможно. Поэтому, в нашем случае речь в первую очередь пойдет все же о политической игре с зарубежными игроками. И, стало быть, понадобятся игрокам новые колоды, которые они будут использовать для продуманных тактических ходов, вариантов игры. Охотники на информации найдутся где угодно. Америка, Франция и Англия — конкуренты, которые бдительно следят друг за другом. Предположим, ну разве нельзя будет сказать французам, под большим секретом, конечно, что организация имеет осведомителей, чьи сведения могут идти без контроля со стороны англичан? Или наоборот? В общем, схема такова: мы должны заставить англичан поверить в существование в России новой, дотоле неизвестной им мощной и осведомленной организации, а руководителей русской политической эмиграции — поверить, что мощная организация в России, разумеется, революционная и радикалистская, остро нуждается в опытном, авторитетном вожде. В интересах большего правдоподобия мы для верхушки политэмиграции изобразим даже контакт этой организации с ее людьми в Москве. Их достаточно будет здесь под нашим контролем.
-Поверят?
-Поверят. А поверить им в это тем легче, что они знают: революционеров у нас хватает. Естественно, что эта организация действовать не будет. — сказал Дрозд — Бонячевский. — Она — миф. Миф для всех, кроме англичан и политической эмиграции. И чтобы они этого не разгадали, нам надо работать очень умно и точно, наполняя миф абсолютно реальным, хорошо известным нам опытом деятельности подлинных революционных, радикалистских, подпольных организаций, так?
-Так.
-Что нам нужно? Нам нужно разгадать и парализовать направленные против нас вражеские усилия. А другая конкретная наша цель — выманить сюда политических преступников. И судить их. Это нанесет удар по всей британской разведке здесь, и по русской революционной эмиграции там, внесет разлад в ее ряды, облегчит нам борьбу с нею. Скажу как на духу: я хочу затоптать англичан ногами, показать всему миру наше, русское, бесспорное превосходство. Я хочу встретить их ускользающий сдающийся взгляд, чтобы они признались вдруг — «мы проиграли, конечно».
Среда. В лето 7436 года, месяца сентября в 6 — й день (6 — е сентября 1928 года). Седмица 16-я по Пятидесятнице, Глас шестый.
Москва. Палиха.
Едва переступив порог квартиры, Аркадий Савельевич понял, что здесь кто — то есть. Он вытер вспотевшие ладони и осмотрелся…
Квартирку в неприметном доме на Палихе, с отдельным выходом во двор, Аркадий Савельевич Горовский облюбовал давно, а два месяца назад, на всякий случай, перебрался в нее. В деревянном заборе на задворках он предусмотрительно расшатал доску, под покосившимся дровяным сараем спрятал саквояжик, присыпав его мусором. В саквояжике были запасные документы, «касса» — тысячи на полторы червонных десяток, шесть тысяч рублей ассигнациями, несколько бриллиантов, некрупных, но чистой воды. Еще были в саквояжике переводное письмо на заграничный абонентский почтовый ящик и заветный конвертик серой плотной бумаги с номером личного счета, на котором лежала приличная сумма в валюте. Аркадий Савельевич опасался носить конверт со счетом с собой, хотя и приготовил для него потайное место в подкладке люстринового дешевенького пиджачка…

Гость, причем незваный и неожиданный, неподвижно сидел в комнате за столом, уставленном тарелками с закуской, в полутьме. Он смотрел на вошедшего Аркадия Савельевича в упор и нехорошо улыбался.
-Гора с горой не сходится, а вот человек с человеком… — гость шутливо развел руками.
-Здравствуйте. — осторожно ответил Аркадий Савельевич, человек уже в летах, с розоватой лысиной, которую обрамлял жиденький венчик седоватых волос. Еще не решив, радоваться ли ему приходу неожиданной гостьи или поскорее отделаться от нее, он размышлял. Дряблые щеки, покрытые сеткой склеротических жилок, едва заметно колыхались, две глубокие морщины прочерчивали удлиненное, немного лошадиное лицо от ноздрей к уголкам тонкогубого рта.
-Значит, Аркаша, ты таперича здеся обретаешься? — лениво поинтересовался гость и одобрительно покачал головой. — Неплохо, ей — ей. В центре, но в спокойном месте, подальше от лишних человеческих глаз.
-Нынче всяк советует жить не шибко вольготно. Аккуратно.
Аркадий Савельевич без всякой нужды оглядывался по сторонам, сел на стул около стола и стал елозить, мелко перебирать пальцами, словно сучил невидимую нитку.
Незваный гость усмехнулся и прямо из — под стола достал бутылку водки, плеснул в стаканчик:
-Пей Аркаша, дрожишь, как мышь. Да и закусывай, в самый раз утробу утешить.
Он и себе налил, выпил залпом, крякнул и принялся закусывать добрым, присыпанном крупной солью, салом.
-Оголодали, ваше дитство? — спросил Аркадий Савельевич.
-Оголодал, целый день бегамши…Ох и духовитое сальцо у тебя, хозяин… — длинные руки гостя отхватили ножом добрый шмат сала, и тотчас запихнули в рот. Раздалось смачное чавканье.
-Жадна порода, ваше дитство — деланно усмехнулся Аркадий Савельевич. — Откуда что взялось? В Европах, чай, не так себя ведут…
-Ладно, жри сам досыта.
-Вы по делу?
-По делу.
-У меня жуткие предчувствия. Я не спал этой ночью.
-Пусть вас не волнует этих глупостей. — проворчал, совершенно по — южнорусски, гость. — Обратись к врачу. В наши дни врачи умеют лечить депрессию. Используй модитен.
-Что это?
-Очень эффективный медикамент, действующий на центры высшей нервной деятельности.
-За подсказку благодарю.
-Нужен пуд взрывчатки.
-Эко хватили, пуд…
-Пуд.
-Нету у меня.
-А у кого?
-Есть у меня знакомый человечек на Каланчевке….
-Выкладывай.
-Это уж лишнее. Вам, ваше дитство знать не надобно.
-Я сам решу, что мне надобно. — ответил гость резковато. — Рассказывай. Как на духу…
…Дело было выгодным, хотя и довольно опасным. Какие — то сорвиголовы сумели разгрузить полвагона со взрывчаткой, предназначенной для горных взрыворабот. Теперь они продавали эту взрывчатку.
-По обличью лицо его мне только известно. Встречаемся в городе, на Каланчевке. Прибываю в условное место, а он сам ко мне подходит… — рассказывал Аркадий Савельевич. — Осмотрительность большую имеет. Оно и верно. Шея и у меня одна, и ей очень не хочется в намыленную петлю соваться.
-Когда вы c ним встречаетесь?
-Послезавтра, в три часа.
-За тобой пустим «хвост», потом его пропасут до порога.
В окно был виден дворец Московского института мозга — он вздымался как гигантский корабль, пронизанный огнями. А дальше, как пожар, далеко озаряя небо и землю, сияла ступенчатая белая башня Московского радиоцентра, сотни окон ее горели расплавленным золотом. Вверху, на высоте орлиного полета, будто властно породнилась с полярной звездой, подсвеченная, кипела в поднятой руке башни — великана огонь — игла, не знающая пепла.
-Давеча привезли в Москву, — заговорил гость, мягко усмехаясь, — какого — то старика, одного из знаменитых наших рэволюционеров, сколько — то там отбывшего в каторге и в ссылке, в Якутии. Старик посмотрел на Москву нонешнюю и даже зашатался от восторга. Царю вверх поклон послал, причем письменный. «Ну, — говорит, — увидел я самое большое чудо света, теперь и умирать можно!».
Аркадий Савельевич бросил взгляд на окно.
-Скоро. — пообещал гость.
-Что скоро?
-Эмиссар будет скоро.
-Когда же?
-А вот этого пока не знаю. Эмиссар будет уполномочен ставить разные вопросы.
-Надо быть готовым?
-Надо быть готовым ко всему и к любому развитию событий. Его полномочия будут предполагать контакт и переговоры с представителями различных групп, во — первых, постановку дела, во — вторых.
-Миссия «лисья», полагаю?
-Полагай, что угодно. Группа у тебя готова?
-Готова. Девчушки — веселушки и настоящий грузинский князь. — с гордостью в голосе ответил Аркадий Савельевич.
И было чем гордиться Горовскому и группа в самом деле была готова. Как приготовлена была загодя, на Домниковке, и комната для проживания и организации «работы» — большая женская комната во втором этаже, комната замечательная по многим причинам. Во — первых, сами проживавшие в ней девчата, подобранные Аркадием Савельевичем с невероятной скрупулезностью. Тут жила и ехидная поэтесса Элен Гущина, чумазый бандит с черной, шершавой башкой и стремительными движениями, и синеглазая Верочка Китаева, занимавшаяся скандинавскими переводами, и краснощекая Паня Морковкина, девка с глуповатинкой, но добродушная. Во — вторых, вечный гость комнаты — плясун Рафаил, кавказский человек, называвший себя князем Горгелиани, ходивший в узконосых сапогах со слабыми признаками каблуков и перетянутый узким кавказским поясом. Где — то он печатался, где — то учился, посещал какие — то курсы и имел виды на Верочку. Благодаря его почти постоянному присутствию в комнате никогда не создавалась нездоровая, распущенная атмосфера: боялись. Он любил ровно, спокойно, как семинарский доклад читая, доказывать, что совместная жизнь порождает излишнюю близость, возбуждающе действует на половые инстинкты, в результате чего в могла создаться нездоровая, распущенная атмосфера. По мнению Рафаила, всему должно быть время и место, а распускать себя без толку не должно.
Верочка Китаева, подначивая Рафаила, возражала ему:
-В Турции закрывают даже лица женщинам, очевидно считая, что открытая физиономия может вызвать «нездоровую, распущенную атмосферу». У нас к открытым лицам привыкли, и они возбуждают в нас всякие чувства лишь, поскольку от этого вообще нельзя отказаться. И так же, как вы привыкли к открытым лицам, привыкнем к тому, что будем при мужчинах снимать свои кофты, и прочие штуки. У папуасов каких — нибудь, совсем без кофт ходят, и то ничего. Так что Рафаил со своей биологической подкладкой вообще не выдерживает критики. Речь идет не о каком — нибудь животном стаде, а о человеческом обществе, и мы должны подходить, как общественники, помня, что все относительно, и нет ничего абсолютного…
…Комната была без проточной воды, но недурная, прилично обставленная; все находилось в образцовом порядке. На письменном столе под красное дерево были аккуратно расставлены лампа, чернильница, лодочка для перьев и карандашей со стопкой писчей бумаги. Столом пользовались по очереди все обитательницы комнаты. Кроме Рафаила, проповедовавшего современную аскезу.
Рафаил организовал выпуск листовок на гектографе. Само устройство выглядело довольно просто — это небольшая емкость, сделанная из металла или фаянса. Размеры емкости подогнаны были под кювету, с печатный лист. Емкость заполнялась студенистой массой, приготовленной на основе желатина и глицерина, на ее поверхность клался первый лист, текст которого выполнен чернилами и поверх листа прокатывался валиком. Чернильные буквы отпечатывались на массе и позволяли создавать копии текста. Массу для печати Рафаил делал по немецкому рецепту: брал три фунта столярного клея, растворял при помешивании и постепенном нагревании в пяти фунтах воды, после чего прибавлял одиннадцать фунтов глицерина. Состав фильтровал и выливал для застывания в подготовленную емкость. Паня Морковкина готовила чернила синего цвета: брала десять фунтов резорциновой синей краски, фунт уксусной кислоты, четыре фунта глицерина и десять фунтов винного спирта. После растворяла при нагревании в восьмидесяти пяти фунтах дистилированной воды. Листовки печатали немецким способом. Немецкий способ подразумевал нанесение на бумагу текста раствором уксусно — кислого железа, после чего текст тиражировался обычным способом…
Были еще двое в группе Аркадия Савельевича, для оживления «антуража» и придания делу большей правдоподобности — патлатый «анархист» со смешной фамилией Бублик, и рабочий Рябов…
-Не переиграй Аркадий. Сделаем дело — тогда отпущу на все четыре стороны. — зло сказал нежданый гость. — И вообще, я ожидал от тебя большей активности. Третий месяц ты в Москве и крутишь вола…
Аркадий Савельевич Горовский налился кровью и стиснул челюсти. Другому бы он не спустил подобного тона, но тот, кто сидел перед ним сейчас, был опасен.
-Все адреса прикрой, все связи временно оборви. Сиди тут тише мыши. Ежели все сложится удачно — передай оговоренную сумму продавцам, а «товар» перевези в надежное место. Приготовь взрывчатку для последующей передачи снаряжателям бомб. И деньги приготовь…
-Денег осталось с гулькин нос. Самый пустячок. — сказал Горовский.
-Плохо…Кассу передашь мне.
-Сейчас?
-Нет, позже.
-Разумно. Тем паче и деньги не при мне.
-А где?
-В надежном месте, не здесь. — быстро ответил Горовский.
-Кроишь, Аркаша…
-Страхуюсь. Финансовый вопрос, как мне представлялось, был решен раз и навсегда. Могу ли я допустить, чтобы вы его пересматривали при каждой встрече? Договор есть договор.
-Мне безразлично, как ты это называешь. В дальнейшем все деньги передавать будешь мне…
-Я мог бы ограничиться выполнением контракта. — возразил Аркадий Савельевич.
-Что ты хочешь этим сказать?
-То, что сказал.
-Я принимал тебя, Аркадий, за идеалиста, но теперь мне кажется, что ты человек корыстный.
-Вы ошибаетесь, — сказал Аркадий Савельевич изменившимся голосом. — Если бы я был корыстен, то давно бы уже занимал другую должность.
-Каждый сам правит своей лодкой.
-Вы оскорбили меня, обвиняя в корысти.
-Поставь себя на мое место.
-Я для себя что ли прошу деньги? — сказал Аркадий Савельевич. — Моя сеть обходится мне теперь гораздо дороже.
-Хорошо. Я пересмотрю ставку. Добавлю от своих щедрот. И вот еще: не сочти за недоверие или еще что — то…Хотелось бы еще раз пройтись по «легенде».
-С чего начать? — спросил Аркадий Савельевич.
-С самого начала…
Среда. В лето 7436 года, месяца сентября в 6 — й день (6 — е сентября 1928 года). Седмица 16-я по Пятидесятнице, Глас шестый.
Москва. Палиха.
-…Мне довелось принять участие в одной заговорщической организации, существование которой, впрочем, было непродолжительным. Причиной роспуска стали болтливость, неумелое обращение с деньгами, разбрасываемыми понапрасну, что и развратило членов ячейки. Через полгода я был приглашен к одному человеку, будто бы много слышавшему обо мне. Роль опытного заговорщика, которую мне приписывали, конечно, была мне не по зубам, но мое любопытство взяло верх, и, в одно прекрасное утро, я предстал перед очами заинтересованного знакомством со мною лица…
-Так, дальше, Аркадий…
-Мне предложили вступить в террористическую ячейку. Слова о необходимости террора показались мне внушительными и яркими, а доводы убедительными. Я, не колеблясь, согласился стать в ряды активных работников, отрастил бороду, в целях конспирации снял квартиру. Я даже принял участие в постановке слежки за одним царским чиновником. Слежка, однако, продвигалась медленно. Террористические акты в отношении отдельных лиц, как показал опыт, требовали много времени, а кроме того, приходилось постоянно сталкиваться с непредвиденными препятствиями, наконец, действуя в узком масштабе, мы добивались бы только репрессий, но не смогли бы даже устранить власть. Я и раньше заказывал необходимость более широкого образа действий, но этого не допускала малочисленность организации, пополнить которую, при инертности общества, было трудно. Я практически вышел из этого дела. Несколько позже я взялся разрабатывать одно предприятие. Следовало все строго обдумать и детально проработать. Оно должно было быть организовано несколькими товарищами совершенно самостоятельно; в случае ареста одного, работу продолжал бы другой. О самом своем плане я никогда конкретно не говорил. Но из постоянного обмена мнениями и характера подготовительной деятельности товарищи полагали, что задуман грандиозный акт, а именно взрыв, в государственном учреждении, посещаемом министрами и другими высокими особами.
-В чем состоял замысел?
-Террористы должны были проникнуть в здание одного из присутственных мест в качестве корреспондентов. В течение некоторого времени предполагалось вводить в здание. Под видом корреспондентов, подставных людей, надежных, но во всем прочем невинных в политическом отношении, а в решительный день заменить их террористами, которые должны были иметь разрывные снаряды в корреспондентских портфелях или же в муфте, если это была бы дама — корреспондентка…
-А за границу зачем отправились?
-Надо же было заинтересовать кого — нибудь из представителей русской политической эмиграции.
-Из России как выехали?
-Довольно просто. Пошел в палестинское консульство…Знаете, там никакой работы в сущности, не производилось, и в то же время суете была необычайная. Целая армия молодых людей, преимущественно еврейчиков…
-Про еврейчиков не надо.
-А как тогда?
-Говорите: евреев.
-Хорошо. Молодые люди носились взад и вперед по бесчисленным канцеляриям, шушукались, что — то торопливо писали. Спорили и опять неслись в разные стороны. Получалось впечатление какого — то беспрерывного кабака, и было совершенно непонятно. Для какой цели предназначалась вся эта шумная орава. Я поймал одного, какого — то молодого интеллигентного еврея, всучил ему тридцать фунтов и через два часа уже располагал визой. На следующий день я выехал в Гаджибей, сел на пароход в Яффу, в Константинополе пересел на английский пакетбот. И оказался в Лондоне.
-Обратно как?
-Тем же макаром: пароходом до Константинополя, оттуда — в Феодосию или в Гаджибей.
-Так в Феодосию или все же в Гаджибей?
-А как лучше? Думаю, в Гаджибей.
-Толково, Аркадий. Ну, давай еще раз, повторим…
Глава Седьмая.
Женские штучки.
Пятница. В лето 7436 года, месяца сентября в 8 — й день (8 — е сентября 1928 года). Седмица 16-я по Пятидесятнице, Глас шестый.
Москва. Рождественская улица.
…Явочная квартира находилась в доме под нумером два и была замаскирована под видом кабинета частного практикующего ветеринарного врача.
Домик был, как и все такие домики, едва освещенным, двухэтажным, облицованным досками грязно — бурого цвета, на кирпичном полуподвале. Серая заплаканная крыша, тусклые окна по фасаду, в середине — подъезд с неглубоким навесом, по углам — мятые водосточные трубы.
«Химик»поднялся на второй этаж. Не найдя звонка, постучал. Дверь открылась мгновенно, в проеме ее стояла женщина в полупрозрачном пеньюаре, отделанном пышными кружевами, поверх которого наспех был накинут пестрый китайский халат с синими драконами.
-Вам кого?
-Господина Арсеньева, мадам…, э…
-Александра Самсоновна.
Женщина без слов удалилась, но сразу же вернулась:
-Господин Арсеньев просит вас немного подождать. Вам придется поскучать со мною.
Она провела мужчину в кабинет, зажгла стеариновые свечи в тяжелых бронзовых сандалах. В колеблющемся свете проступали книжные шкапы, старинные картины в позолоченных рамах. Двери, потолок, окна из мореного дуба, потемневшие от времени…Квартира утверждала незыблемость бытия — все здесь было массивно, крепко, дышало основательностью. Среди дорогих вещей хозяйка казалась маленькой серой тенью. «Химик» разглядывал хрупкую фигурку в китайском халате довольно бесцеремонно: в ее движениях, кажется, таился страх перед гостем, но женщина старательно не показывала смятение. Красивая голова была независимо откинута назад. Большие глаза щурились от неровного света. Пожалуй, только набрякшая жилка, вздрагивавшая возле уха, выдавала испуг.
В кабинет вошел тот, к кому пришел Кациус — у него было широкое грубоватое лицо с отменно-крупным носом, глазами и подбородком, который, как и щеки, был выбрит. Череп его был совершенно обнаженный, жесты медленны и закругленны, голос громок, интонация внушительна, взгляд — многозначителен.
-Я — Арсеньев.
Когда все формальности с паролем и отзывом были улажены, приступлено было к делу. Александра Самсоновна принесла чай. Арсеньев взял со столика дымящуюся чашку. В его загорелых пальцах она забелелась как кролик.
-Приятно иметь дело с интеллигентным человеком. — сказал Арсеньев. — «Химик», кажется?
-Тем паче и мне в камере надоело.
-Скучное общество?
-Ну, как вам сказать? Компания подобралась славная, одно слово — сливки общества. Один крупный профессиональный бандит, из «могикан» этого дела. По внешнему виду, по манерам, языку это был вполне интеллигентный человек, владевший, кстати, кроме русского, французским и итальянским языками. Другой -рыбный делец. Весьма колоритная фигура. Могучего сложения и необъятной толщины, с огромным животом и соответствующего объема противоположным местом, веселый и неунывающий. И вид у него такой, будто он приехал на курорт. В Охотном ряду у него фирменный рыбный магазин, а в Астрахани — рыбные промыслы с заводом, производившим консервированную, копченую и соленую сельдь, белугу, осетрину, севрюгу и стерлядь. Ворочает он миллионами. А попался на мелкой афере — в каждую бочку сельди, проданной государству, он влил по лишнему ведру воды. При крупной партии сельди это могло составить большую сумму, да — с…Знаете, в чемоданчике, который ему, в порядке исключения, разрешили взять в камеру, кроме белья, лежат всякие съедобные деликатесы, а главное — несколько блоков хороших папирос по сотне штук в каждом. У нас пачки вскрывали, и папиросы передавали нам навалом.
-Тюрьма — дом родной…
-Не соглашусь решительно…Режим, отсутствие приличной вентиляции и прогулок…В последнее никакой иронии я не вкладываю — удобства налицо: миниатюрная раковина умывальника и самый натуральный унитаз с промывным бачком. Словом, все одиночные камеры во внутренней тюрьме имеют и ватерклозеты. Кроме того, в камере есть железная койка, железный стол и железное сиденье, накрепко приделанное к стене. Ну, есть и неудобства — жиденький, сомнительной чистоты матрасик на койке и подушка с солдатским одеялом. Так ведь, не дома — с, надо понимать…Ах, да, еще звуки…Арестант, лишенный возможности следить за временем по часам, привыкает определять его по звукам, проникающим в камеру извне. Звуки разнообразны. Они возвещают то об утренней уборке, то о раздаче пищи; иногда, раздаваясь в неурочный час, они говорят о таинственной, не совсем понятной жизни, которая идет своим чередом за замкнутой дверью. И ни прогулок, ни книг, ни бумаги, ни карандашей. Дело твое серьезное, режим содержания подразумевается особый.
-Да — с…
-Хочется, наконец, подышать вольным воздухом Сибири. Или русского Севера. Вы знаете, господин Арсеньев, я уже давно не был на Севере.
-Мне нравится ваше игривое настроение. Но по долгу службы не могу приветствовать ваше скоморошничание. Посему немного остужу вас: вы слыхали, что на Печоре на реке, открыты залежи каменного угля и их уже вовсю взялись разрабатывать?
-Не слыхал. Так что же?
-А то, что не едут на Печору вольные шахтеры. Потому и приходится гнать весельчаков вроде вас. Вгрызаться в вечную мерзлоту Печорской земли. Такой Север — в шахтах, вольным воздухом не пахнет, там пахнет угольком. А свежесть и бодрость духу придают полярный ветер и вечная мерзлота…Времени мало, вокруг ходить и около не стану.
-По мою душу из созвездия «гончих псов» частенько являются… — ответил гость.
-Есть такая замечательная русская поговорка: спроси не стараго, спроси бывалаго. — сказал Арсеньев.
-Мне сдается, что вы не по той мерке рубаху шьете. — ответил «Химик», не раз носивший «бубнового туза» на спине*.
-В этот раз в самый цвет шьем и ты это прекрасно знаешь и понимаешь, любезный. — покачал головой Арсеньев.
«Химик» посмотрел на Арсеньева сверлящим взглядом и с расстановкой промолвил:
-Вы меня, пожалуйста, не «тыкайте». Не забывайте, что я такой же интеллигент, как и вы. И вы, господин хороший, вот так, на раз — два, не глядите с таким манером, будто я из — под скулы отгрыз у кого — то лопатник и мильон народу пальцами в меня указал?!
-Хорош интеллигент, что и говорить!
-Какой есть.
-Давай считать, что ты, калач битый и тертый, всеми собаками травленный, «марку» держал сколь можно, фасон выказал знатный. — внезапно совершенно спокойным тоном сказал Арсеньев. — Таперича о деле.
-Только не просите за здорово живешь из блохи голенище скроить. Что за дело?
-Допустим, через какое-то время придет к тебе человек. Нездешний, заграничного крою и фасону и что — то интересное с твоего языка сорвет…
-Язык на то и дан человеку, чтобы лгать — это кто сказал, не знаете? — нравоучительно сказал гость. — Впрочем, сие неважно. Но одно дело — охотничьи и рыбацкие рассказы, ложь о несчастной любви и бедной жизни, а еще ложь, когда человек лжет словом, и телом, и помышлением — это ложь любовных историй, слова в которых так однообразны и приемы не оригинальны, что им поверит или ребенок или дурак, и уж совсем другое дело — это ложь о неопровержимых доказательствах. В этом случае подобная ложь приведет к единственно возможному результату.
-Это какому?
-Она ему встретилась, а он ей попался.
-Что — то вроде того. Надобно будет этому человеку сказать, что я велю. И все.
-И все?
-Надо, чтобы все было правдоподобно.
-А опосля что?
-Ничего. Смолчишь и мы смолчим.
-Молчание — золото.
-Ты, стало быть желаешь за свои старания гостиницу «Регина», шикарнейший номер с картинами во всю стену, телефоном и отдельным ватером, а в зубах чтоб дымилась сигара?
-Хотелось бы более внятно услышать…
-Ковшик менный упал на нно, оно хошь и досанно, ну да ланно — все онно…
-Это вы по — каковски сейчас со мною?
-Смеются так, про вологодских. — сказал Арсеньев. — Неужто не слыхал такой присказки?
-Я разное слыхивал.
-Так я про вологодских продолжу…У нас же теперь казнят редко. У нас теперь делают иначе: подвальная камера с земляными полами, без печи, без оконца, с единственной щелью в двери, достаточной для того, чтобы просунуть снаружи кружку с водой и ломоть хлеба. Из всех вещей в камере — тюфяк с перегнившей соломой. Ни прогулок, ни свиданий, ни писем, не посылок с воли. «Неисходная тюрьма», слыхал? В лютую вологодскую зиму она свое дело делает. Расправа по своей жестокости не уступает смертной казни государевых преступников.
-Холоду вы напустили преизрядно. — криво усмехнулся «Химик», и было видно, что слова Арсеньева произвели должное впечатление. — Ладно, банкуйте…
-Другой коленкор! — одобрительно проговорил Арсеньев и дружелюбно похлопал «Химика» по плечу. — Ты, если тебя отполировать, Шаляпиным в нашем деле можешь быть, Шекспиром! Искорка в тебе есть!
=======================================================
не раз носивший «бубнового туза» на спине* (жарг.) — на воровском жаргоне «бубновым тузом» называлась деталь униформы каторжанина, лоскут в виде ромба желтого или красного цвета.
Пятница. В лето 7436 года, месяца сентября в 8 — й день (8 — е сентября 1928 года). Седмица 16-я по Пятидесятнице, Глас шестый.
Москва. Покровское — Стрешнево.
Ресторанчик «Загородный» в Покровско — Стрешневе находился недалеко от разворотного трамвайного круга. В этом трактире бывали «тотошники», жокеи, конюхи, здесь можно было обменяться мнениями о предстоящем дерби, поспорить о лошадях, подпоив жокея, выведать шансы на победу того или иного фаворита, краешком приобщиться к роскошной жизни владельцев Глебовских конюшен, расположенных за парком и Покровско — Стрешневскими прудами. В «Загородном» подавалась зернистая икра в серебряных ведерках, руанские утки, выписанные из Франции, красные куропатки, котлеты «а ля Помпадур»…

Около часу дня в «Загородный» вошел Чечель, одетый по последней моде, завезенной американцами: короткий пиджак с подложенными плечами, прикрывающий пояс жилет, широкие классические брюки со стрелками, длинный галстук ярких цветов, полубашмаки с острыми носками, соломенная шляпа канотье. Он быстро прошел через первый зал с накрытыми для завтрака столиками, опустился за самый дальний стол, у окна, за которым его ждала Елена Львовна Гончукова. Тотчас к столу подскочил официант:
-Что угодно, сударь?
-Водки, борща и сметаны… Шучу. Что порекомендуете? — спросил Чечель, принимая из рук официанта меню, и откладывая его в сторону.
-Сегодня прекрасный выбор блюд.
-Заказывайте вы, Елена Львовна. — сказал Чечель.
-На закусочку рекомендую устриц.
-Средиземноморские? — поинтересовалась Елена Львовна.
-Как можно — с? — деланно возмутился официант. — Мы берем исключительно каркинитские. Исключительно по цене и качеству!
-Вино?
-На ваше усмотрение. Шабли или мартель.
-Шабли — отличное вино. Свежее.
Чечель усмехнулся и отрицательно покачал головой.
-Тогда мартель?
-Да.
-Еще какие — нибудь закуски? — осведомился официант.
-Легкий салатик. — сказала Елена Львовна. — Можно «славянский» с физалисом, свежей зеленью и кимчи со свининой.
-Первое?
-Разумеется. — кивнула Елена Львовна. — Ростовской ушицы с форелью. На второе — завиванцы из свиной вырезки под белым соусом.
-Десерт?
-Без десерта. — сухо ответила Елена Львовна. — Только кофе.
-Водки с морсом, «Екатерининскую» соляночку. — сказал Чечель официанту. — И чтоб в горшочке…
-Не обязательно было приглашать меня в эту харчевню. – сказала Елена Львовна. — Это бесполезно.
-А вы предпочитаете американскую едальню? Американская едальня — это почти всегда лотерея. Никогда не узнаешь, вкусная ли еда и можно ли вообще это есть, прежде чем не попробуешь.
-Не любите лотереи? — улыбнулась Елена Львовна.
-Я не люблю лотереи. Я не люблю жирные котлеты. Я не люблю сэндвичи. Это ерунда, а не еда.
-А как насчет азиатской кухни?
-Азиатская стряпня, по — моему, еще хуже американской. — фыркнула Елена Львовна.
-Американская кухня — это сплав различных стилей и способов приготовления пищи. Из — за того, что вначале страну заселяли английские колонизаторы, большое распространение получили именно национальные блюда Англии. — сказал Чечель и небрежно глянул на женщину.
-Однако со временем местная кухня изменилась и не в лучшую сторону: привычки коренных народов Америки, а впоследствии и жителей других стран, переселившихся в США, смешались и адаптировались друг под друга. — ответила Елена Львовна. — Ужасная смесь всего, бр — р…
Чечель обсмотрел ее наново.
-Вы ошибаетесь. — мягко, успокаивающе, ответил он. — Азиаты — одна из немногочисленных рас, представители которой могут похвастаться идеальными формами. Проблема лишнего веса им неизвестна. Все дело в том, что они выстроили особенный рацион питания — низкокалорийный и полезный, богатый овощами, фруктами, морепродуктами, которые не только препятствуют накоплению новых жировых отложений, но и способствуют активному сжиганию старых.
-А мяса почти нет. — вставила, улыбаясь Елена Львовна.
-Азиатская диета ограничивает употребление всех видов мяса, зато может похвастаться изобилием рыбы и морепродуктов.
-Попробуйте тыквенно — картофельный суп со сливками. — посоветовала Елена Львовна.
-Для меня этот гурманский подвиг будет сродни покорению Монблана. Кстати, русский Эльбрус выше французского Монблана на каких — то восемьсот метров. А вы слышали историю про покорение вершины Эльбруса?
Елена Львовна отрицательно покачала головой.

-Году эдак в 1874 — м, решено было покорить западную, наиболее высокую вершину Эльбруса. Английскими альпинистами во главе с Гроувом и проводником из местных жителей.
-Вот как? Английскими?
-Да. Позвольте обрисовать вам природу, а там пойдет суть дела. Островерхие вершины гор, покрытые вечными снегами, неприступные массивы горных громад…Круторогие утесы каменистых кряжей…Уходящие в небо отвесные скалы, от одного взгляда на которые у опытных альпинистов кружится голова…И вот, одновременно с Гроувом и его альпинистской группой, в Приют Одиннадцати — это, знаете ли такой временный лагерь в районе скальной гряды, прибыла русская воинская команда горных стрелков. Прибыла для соответствующей учебы на местности. Русские и англичане познакомились. Попили чаю, так сказать, на лоне природы. Грове подробно рассказал, куда они хотят забраться. какой у них маршрут намечен…
-И что?
-Ранним утром, еще до выхода альпинистов Гроува на маршрут, на западную вершину Эльбруса русские отправили…музыкантскую команду.
-Зачем? — Елена Львовна, кажется, с неподдельным интересом слушала рассказ Чечеля.
-Ну, пожелали сделать приятное англичанам. — Сергей Владимирович развел руками. — Встретить ободряющей музыкой в знак уважения и приветствия, и под звуки походного марша или вальса проводить их на штурм вершины. Так вот. Музыканты поднялись к западной вершине по еще никем и никогда нехоженному маршруту. Даже барабанщик не отстал и тащил свой инструмент. Пришли на площадку, крохотную, но все же было место куда поставить барабан и ледорубы…
-Потрясающе…
-Музыканты успели закусить и даже чего — то там выпили…А через час — полтора к вершине вышли английские альпинисты. Трое. Их встретили веселым маршем…Представляете — музыка среди вечных снегов. Волшебно…
-Я бы даже сказала — изумительно… — пробормотала Елена Львовна. — Но, в конце концов, вершину покорил Гроув?
-Разумеется.
-Отличный исторический анекдот…
-Это не анекдот. — покачал головой Чечель, поглядывая на любовницу московского палача. — Мне эту историю рассказала Кэти Гарднер. Ее отец был одним из тех, кто с Гроувом поднялся на западную вершину Эльбруса…
Елена Львовна недовольно передернула плечами и бесцеремонно спросила Чечеля:
-Вы слишком пристально меня рассматриваете, не так ли? Почему?
-Это наказуемо?
-Нет, но…
-Я рассчитываю на продолжение нашей милой светской беседы…
-А — а, понятно…Что, крепость отказалась выбросить белый флаг, однако вы не теряете надежды продолжить ускоренную атаку?
Чечель споткнулся о ее вопрос, словно о камень:
-Поражен вашей наблюдательностью, сударыня.
-Невелик труд заметить то, как я вбила вас в паркет по пояс одним своим взглядом.
-Я, собственно, пока не тороплюсь вступать в поверженный город на белом коне. — ответил Сергей Владимирович, отвесив шутливый поклон.
Она удивилась, или сделала вид, что удивлена, усмехнулась, оглядела его с ног до головы.
-Мою крепость вы, пожалуй, не взяли бы ускоренной атакой, — наконец сказала она.
-Не торопитесь с выводами, сударыня. Они могут оказаться поспешными и…неверными. — заметил Чечель снисходительным тоном.
Она обернулась к нему с недовольным выражением на лице, похожая в эту минуту на великовозрастного ребенка, закурила легкую испанскую пахитосу*, выпустила тоненькую струйку серовато — белесого дыма и спросила:
-Откуда вы такой взялись?
Чечель, слегка возбужденный, ответил с неожиданной молодецкой удалью:
-Боюсь, что мой ответ может показаться вам скабрезным.
-Я люблю скабрезности. — серьезно сказала она и прищурившись, выпустила в потолок струйку дыма.
-От скабрезности до пошлости идти недолго.
-Говорю как есть. — резко ответила она, — Это располагает к откровенности. Вы так не думаете?
Чечель пожал плечами.
-Боитесь быть откровенным? — насмешливо спросила она.
-Я предпочитаю изо всех сил притворится взрослым, сильным и уверенным, — усмехнулся Чечель, — К тому же, момент искренности рано или поздно минует, и станет даже неловко за излишнюю откровенность.
-Боитесь продемонстрировать своё настоящее «Я»?
-Не люблю чувствовать себя неуютно.
-Но сейчас вы откровенны?
-Отчасти. А вы?
-Такие минуты откровенности, чаще всего, у меня происходят со случайными попутчиками в поезде, когда каждый уверен, что это последняя остановка и больше он никогда не увидит другого.
-И зачем вы строите из себя загадочную личность? — перебила она Чечеля, — Хотите произвести на меня впечатление?
-Мне кажется, я все — таки произвел на вас хорошее впечатление. — сказал он.
-Вам кажется.
-Тогда ответьте, я хотел бы знать: какое впечатление я на вас произвел?
-Это вы и сами должны понять. Да и трюк довольно старый.
-Вероятно, многие пытались проделать этот трюк с вами.
-Многие.
-Ну, положим, во мне — то ничего загадочного нет. И все — таки, произвел я на вас впечатление?
-Вы достаточно скучный человек.
-Не люблю утомлять людей своими рассказами.
-Предпочитаете удивлять холодной эрудицией больше чем безрассудной страстью? — язвительно спросила Елена Львовна.
-Когда как. Например, сегодня я готов удивить вас безрассудной страстью, сударыня.
Она окинула его полным значения взглядом и ответила:
-Вы самоуверенны. К тому же я никогда не строю планов на столь долгое время. И уж тем более в моих планах вряд ли найдется место для вас. Уж простите мне мою откровенность.
-Мы с вами едва знакомы. Может все же стоит исправить эту ошибку и…
-Серж, знаете ли, тоже люблю брать все, что мне приглянется, но я не позволяю, чтобы кто — то завладел мной.
Чечель предложил, несколько грубовато, что в — общем-то, ему, столбовому дворянину, лицеисту и выпускнику «Кадашей»*, было не совсем присуще:
-Я все же хотел бы продолжить наше знакомство. Планировал сегодня вечером дух перевести за городом. Поедемте и поужинаем?
-Вы назойливо настойчивы, Серж. Настырны. Полагаете, я вот так, запросто, согласившись поехать, помогу заодно раскрыть вашу душу, душу маленького, испуганного ребенка…глубоко чувствительную и влюбчивую натуру?
-Не поможете?
-С чего вы взяли, что помогу?
-Вы не боитесь показывать своё неистребимое желание быть открытой всем и каждому.
-Не боюсь. Если не давать выхода своему желанию быть открытой, то оно так и будет погребено в хламе пустых разговоров.
-Мне это импонирует. — кивнул Чечель. — В ваших словах тоже есть что — то от безрассудной страсти. А без страсти невозможно существование настоящих убеждений. Чувства — корень всех глубоких идей.
-Убедительно. — ответила женщина, — Вы вдобавок ко всему еще и льстец, каких поискать. Нахваливаете то, чего женщина лишена, но чем она на самом деле очень бы хотела обладать.
-Не находите в себе безрассудности? Не верю. Все же очевидно.
-Считаете, что подготовили меня к доверительной беседе?
-Почему бы нет?
-Однако вы сейчас испугались. Собственных слов испугались. — сказала она.
-Испугался. — ответил Чечель. — По — моему, нормальная реакция.
-Самое ужасное, что, даже не стесняясь обнажить тело, человек боится обнажить душу. — тяжело вздохнула она. — Мы много говорим, глядя на античные статуи, о том, что греки, не стесняясь, восхищались красотой человеческого тела — заметьте, обнажённого тела! Но нельзя забывать, что ещё больше они восхищались красотой обнажённой общением души. И именно это позволяло не превратиться восхищению телом в пошлость.
-Увлекаетесь древними греками и античными временами?
-Меня больше увлекает социология.
-Что вы говорите?! Наверное интересно?
-Я работаю над темой «Миграция между Россией и Швецией: женские стратегии».
-Даже так?! Так вы занимаетесь женскими стратегиями?
-Представьте. В своих размышлениях по поводу женских брачных стратегий, я выделила несколько путей, используемых русскими девушками для достижения брачной цели: поиск партнера через брачные агенства, поиск работы, поиск учебы, стажировки. И пришла к выводу, что основная возможность для эмиграции русских женщин в Швецию — это брак.
-И есть подвижки?
-Есть.
-Вы женаты?
-В каком — то смысле. — сказал Чечель.
-Живете отдельно?
-Разъехались. — это было похоже на допрос, но он отвечал терпеливо.
-Бедняга.
-Кто? Она или я?
-Вы шутите, да?
-Шучу.
-Но вы по — прежнему питаете к ней нежные чувства, не так ли?
-У каждого мужчины должно остаться воспоминание о своей мисс Чаворт…«Вам небом для меня в улыбке Мэри милой//Уже не заблистать», так, кажется у поэта?
-У какого?
-У Байрона.
-А… — протянула Елена Львовна без всякого выражения. — Вы дворянин, надеюсь?
-Разумеется. Самый что ни на есть. Столбовой. Так поедем или нет?
-Разумеется, нет. — она покачала головой. — Вы очень прямолинейны.
-Не люблю тянуть кота за хвост. И потом, я ведь предлагаю вам общение душ, а не тел. Простой ужин без намека на пошлость, как вы сейчас, наверное, предполагаете. Вы согласны или не согласны?
-Почему вы решили предложить поужинать?
-Мне не хватает ваших…глаз. Вашего взгляда. Я готов взять и прямо сейчас умереть именно за этот ваш взгляд, пристально — настороженный.
-Почему? — кажется, она впервые смутилась, услышав его комплимент.
-Я знавал много людей с таким же взглядом. Люди, которым жизнь, походя, наносит удары, уходят в себя, становятся более ранимыми, недоверчивыми, менее приветливыми и более сосредоточенными.
-Вот как? Знавали? А мне кажется, вы родились с серебряной ложкой во рту, — усмехнулась Елена Львовна.
Чечелю показалось, что в ней что — то дрогнуло, в глазах вспыхнула едва уловимая искорка потаенной боли.
-Не без этого. — сказал он, — Как говорят мои знакомые кавказцы — «Родился под счастливой звездой». Так едем? Думаю, наше с вами пребывание на празднестве можно считать исчерпанным: нужные слова произнесены, почтение засвидетельствовано, самое время откланяться.
-Нет. Не едем.
-Жаль. В таком случае…
-Спрашивайте, спрашивайте. Вы ведь спросить хотите? Или попросить?
-Пожалуй, попросить. Известно давно: все плохое тянется нестерпимо долго, зато все хорошее пролетает, как один миг. Могу ли я в дальнейшем рассчитывать на то, что наше знакомство не примет вид мимолетного свидания, но перерастет в более доверительные отношения?
-Вероятно. — ответила Елена Львовна едва слышно. Она не смотрела на Чечеля, а разглядывала присутствующих в зале ресторана. И снова в глазах ее вспыхнуло потаенное, на этот раз — грустное…
-Тогда, может быть, поужинаем завтра?
-А почему бы не позавтракать завтра?
-Позавтракать? — Чечель был слегка ошеломлен.
-По заведенному обыкновению я встаю рано, в пять сорок пять утра, выпиваю чашку ароматного чая с лимоном и с сахаром и после еду в Химки, где располагаются одни из лучших в Москве крытые теннисные корты.
-Корты?
-Да, корты, принадлежащие пивоваренным королям Казалетам*, вы верно их знаете? Я играю там около часу в лаун — теннис…
-Одна играете? — с легким оттенком ревнивости в голосе спросил Чечель.
-Одна или с традиционными партнерами, такими же ранними «жаворонками». — пожав плечами, сказала Елена Львовна. — Например с немецким посланником, с русским князем Юсуповым, графом Сумароковым — Эльстоном, совладельцем известного московского футбольного клуба «Вега», или с князем Мещерским…Затем возвращаюсь домой, принимаю ванну, завтракаю по — английски…
-Соблаговолите адрес. — сказал Чечель. — Я заеду к восьми часам утра и мы отправимся завтракать. За английским завтраком и поговорим. Я по утрам больше расположен пить по чай, обычно — черный, крепкий, но иногда — жулан, настоящий жулан*, вывезенный из Кяхты.
-Жулан? Это какой — то напиток? Специфический? Как кумыс?
-Вы знаете, настаивается жулан до багряного цвета, а ароматом, не сильным, не пряным, как пахнут садовые цветы, но благоухающим, тонким, лесного цветка, не пьянящим, не дурманящим, бодрящим, освежающим и запоминающимся, попросту сражает наповал. — сказал Чечель. — Чай пью не спеша, как принято пить по — сибирски. Чай — напиток, за которым думается лучше. Посему, не понимаю, как чашку с сиропом неторопливо опорожняют завсегдатаи павильонов сладких вод. А вообще, заварка чая — это искусство. Сугубо русское.
-Знаете, я вдруг представила вас с куском черного рижского хлеба, луковичкой и стаканчиком водочки с утра. Вкусно ж до жути! — неожиданно фыркнула Елена Львовна и рассмеялась.
-Я признаться, грешен, могу стопарик опрокинуть, не дожидаясь «адмиральского часа»*. — засмеялся в ответ Чечель.
=====================================
закурила легкую испанскую пахитосу* — Пахитоса*: тонкая папироса из табака, в виде соломки, в которой вместо тонкой бумаги используется лист, покрывающий кукурузный початок.
лицеисту и выпускнику «Кадашей»* — московский университет, расположенный в Замоскворечье, в бывш.Кадашевской слободе.
пивоваренным королям Казалетам* — Эта шотландская фамилия была хорошо известна в России. Казалеты являлись основателями и хозяевами канатной фабрики, первого в России промышленного пивоваренного производства — «Казалет, Крон и K°», которое в 1862 году было преобразовано в «Калинкинское пивоваренное и медоваренное товарищество» (его учредителями были указаны великобританский подданный Уильям Миллер, потомственный почетный гражданин Эдуард Казалет и прусский подданный Юлий Шотлендер). Среди прочего, предприятие поставляло элитные сорта пива и к императорскому двору. Казалеты же были инициаторами открытия в Москве и в Нижнем Новгороде первых коммерческих банков, владели в столице несколькими доходными домами. Кроме того, Казалеты оставили свой след в истории Нижегородского стеаринового товарищества, Товарищества русских паровых маслобоен, а также, основанного шотландскими коммерсантами Арчибальдом Мерилизом из Абердина и Эндрю Мюром из Гринока (с 1867 года московский купец 1-й гильдии) сначала в Риге, а затем и в Москве, промышленного и торгового Товарищества «Мюр и Мерилиз» (в 1886 году в результате раздела фирмы в Риге образовалось товарищество «Оборот», которое вело оптовую торговлю во взаимодействии с московским «Мюр и Мерилизом»). Казалеты вошли в историю московского игрового спорта как великолепные организаторы и как меценаты. Кроме того, с их помощью развивался спорт и в подмосковных Химках и Малаховке, где у Казалетов были собственные дачи.
жулан* — калмыцкое название (перешедшее в русский язык), зелёного чая высшего сорта с крупными чаинками. Относится к байховым, т. е рассыпным. зеленый листовой чай. Жулан продавали в бумажных пакетах или коробках. Этот чай прекрасно тонизировал и обладал неповторимым ароматом.
не дожидаясь «адмиральского часа»* — Адмиральский час: укоренившееся со времени царя Федора Борисовича шуточное выражение, обозначающее час, когда следует приступить к водке перед обедом.
Пятница. В лето 7436 года, месяца сентября в 8 — й день (8 — е сентября 1928 года). Седмица 16-я по Пятидесятнице, Глас шестый.
Москва. Покровское — Стрешнево.
Елена Львовна, извинившись, отошла в дамскую комнату. Там она долго смотрела на себя в зеркало и видела лицо, которое совершенно не отражало того, что за ним. Некрасивое лицо, потухшее. В ее круглых карих глазах не было ни горения, ни страсти. Они были сонливы и невыразительны. И щеки уже не вырезаны правильным овалом — что ж, годы — то берут свое, годы берут неумолимо. Между изломанными бровями — две продольные морщинки. Поджатый рот. Тело, еще твердое, но уже начинающее полнеть. Стареющая кожа…Пожалуй, только грудь оставалась по — прежнему хороша, не колыхалась при ходьбе…
-Стало быть, с женой вы не живете? — спросила Елена Львовна Чечеля, вернувшись за стол.
Тот молча пожал плечами.
-Что так?
-Полагаю, мне не стоит об этом рассказывать.
-Женщина? — скучно поинтересовалась Елена Львовна.
-Условимся так: что, да как, да почему — не обсуждается. — ответил Чечель. — Хорошо?
-Хорошо.
-Вы, Елена Львовна, сами — то замужем? Впрочем, не желаете отвечать и вы, так не отвечайте: Ахилл умер оттого, что стрела попала ему в уязвимое место — его пятку. Не будем касаться уязвимых мест.
-Меня с этой стороны трудно в пятку поразить. Потому отвечу — замужем.
-Эге.
-И любовник есть. — с вызовом ответила Елена Львовна. — Естественно.
-Взяли, что приглянулось? — усмехнулся Чечель.
-Институт современного брака включает в себя адюльтер, дающий успокоение нервам и освежающий застаивающуюся до затхлости супружескую жизнь.
-Вы становитесь все более откровенны. Осторожнее. — предупреждающе произнес Чечель.
-Не вы ли пять минут назад говорили, что любите прямолинейность?
-Может быть, я только лукавил?
-Жаль, если так… — вздохнула Елена Львовна. — Знаете, писатели зачем — то выдумали любовь. Будто бы существует беспредельная душевная близость, нежность, нега, страсть, наслаждение, растворение друг в друге, дополнение друг друга, красота формы и красота содержания, беззаветная преданность, неразрывность, гармония взаимного влечения.
-Эк вы сколько взрывчатых слов наговорили.
-Именно — это все взрывчатые слова. Из — за них в убогой жизни тлеет фитиль неодолимого желания встретить хотя бы подобие такой любви.
-Каждая женщина хочет этого. — вставил Чечель. — Романтизм вечен
Елена Львовна посмотрела на Чечеля с легкой укоризной:
-Не в романтизме секрет успеха наивных романов и синематографической фильмы, любовные перипетии которой вызывают слезы на глазах. Настоящие слезы.
Сергей Владимирович закурил. Ему стало безразлично, затащит он в койку Елену Львовну или нет.
-Вам не хочется продолжать разговор? — вдруг с вызовом спросила она.
-Я наперед знаю, что вы дальше желаете сказать.
-В самом деле?
-Женское тело может отдаваться без страсти, и в этом его проклятие. Не правда ли? — сказал он, рассеянно глядя на Елену Львовну.
-Вы в самом деле хорошо знаете женщин? Интересно.
-Замужем давно?
-Достаточно.
-Хотите расскажу про вас и про вашего мужа?
-Давайте.
-Представьте ночь…Ну, или вечер…Муж ваш робко пододвигается, кладет голову на плечо вам, трется об него…Вы можете и оттолкнуть, но вас связывает с ним привычка, годы жизни, мучения, которые вы друг другу причиняли, страдания общие, болезнь детей, сознание того, что муж не покинет вас в трудную минуту, как собака. Но сильнее всего в этот момент ваша отвратительная жалость. Ваша женская жалость, бесстыдная, снисходительная терпимость, почти что животная человечность, ежели такое сравнение допустимо…Вы его жалеете. По — бабьи. И кроме того, вы знаете. Вы прекрасно знаете, что когда — нибудь придется отступить. Лучше бы уж скорее это случилось, чтобы выгадать отсрочку на будущее время…
-Ну, продолжайте, Серж… — лицо Елены Львовны не выражало ничего, оно словно затвердело.
-Вы лежите, не двигаясь…Рука мужа переходит в действие…Шарящие движения, осторожные. Будто слепой ощупывает вашу кожу и робеет. Это совсем не похоже на ласку…Не так ли? И вы не хотите замечать, вы хотите не думать…Но против воли мысль ваша воспроизводит ощущения не мертвого, а отзывающегося тела и это вызывает глубочайшую брезгливость к совершаемому над ним. И вот вы омерзительно претерпеваете, жалеете себя и мужа, вы постыдно милосердны к нему. Вы будто бы под гипнозом, и гипноз этот — муж. Слово.
-Именно, что слово…Я всем своим существом знаю, что этого не должно быть, что это недопустимо, невыносимо и унизительно для меня…
-Вы с мужем — то, ежели в постель ложитесь, одновременно, и ежели при этом не были с ним в течение дня каменно — холодны, а я подозреваю, что и такое бывает, особливо в моменты ваших мысленных и редких физических измен, делаете неизбежное. Получается при этом весьма распространенная карикатура на любовь.
-В точку, Серж. Вы и в самом деле знаете нас, женщин. — Елена Львовна прикрыла глаза на мгновение, потом яростно глянула на Чечеля. — Или — меня.
-Страшно подумать, сколько вас, женщин, по ночам подолгу не смыкают глаз, обобранные своей рабьей покорностью, грубой мужской поспешностью, повелительной необходимостью. Женщине жалко саму себя, ей хочется гладить себя и целовать.
-Интересно, в постели вы столь же хороши, как сейчас бойки на язык?
-В постели я хмур и застенчив.
-Что, и двух слов связать не можете? Молчун? — Елена Львовна деланно насмехалась над ним, но Чечель хранил невозмутимый вид.
-Увы. — сказал он безо всякого выражения.
-Жаль. Я так надеялась поворковать с вами. — Елена Львовна с досады начала покусывать губки . — Почему — то была уверенность, что в постели вы Аполлон.
-Скорее хромоногий Гефест. — тотчас парировал Чечель.
-Господи, что же это такое? — удивленно сказала Елена Львовна.
-Это жизнь. – Чечель состроил столь скучное выражение, что ей нестерпимо захотелось швырнуть в него пепельницей.
-Жизнь? Да, жизнь…Все же вы знаете меня…
-Немного.
-И когда успели?
-Елена Львовна, для одних коридоры жизни извилисты и темны, другие же умеют на ощупь в них ориентироваться и находить нужную дверь.
Пятница. В лето 7436 года, месяца сентября в 8 — й день (8 — е сентября 1928 года). Седмица 16-я по Пятидесятнице, Глас шестый.
Москва. Бутырская слобода. Вятская улица.
Британский стиль жизни давно завоевал любовь и признание в России и по — прежнему являл для российского потребителя гарантии высокого качества. Великобритания объединяла собой многовековые традиции.
…Неизвестно почему англичане облюбовали Бутырскую слободу. Возможно, непосредственное влияние оказал рельеф местности, а точнее, «яма», в которой волей судьбы оказалась Бутырка. Помимо Бутырского пруда в низине лежали два обширных болота: к западу — Горелое, а к востоку — Пашенское. Сырая и заболоченная местность мало подходила для земледелия. Потому — то Бутырская слобода с давних пор была не земледельческим поселением, а служила пристанищем людей самого разного сорта.
С 1618 года в Бутырках стал квартировать Третий выборный полк «иноземного строя», затем слободу заполнили поляки, взятые в плен в ходе очередной русско — польской войны. Поляки пробыли здесь недолго, после заключения мира их отпустили восвояси. Они оставили след в названиях двух улиц: Панской и Шпитальной*, а в истории Бутырской слободы начался новый и славный период: здесь стали селиться англичане. Английской Московской торговой компании уже недостаточно было места на Старом Английском дворе, в Зарядье.
У Бутырского пруда англичане разбили первый в Москве частный ботанический сад. Неподалеку от него англичанин Макгиди основал фабрику по производству хлопчатобумажных тканей, а другой англичанин, Ричард Браун организовал такелажную мастерскую. В 1809 году за Бутырской слободой, по западной стороне Дмитровской дороги, Обществом сельского хозяйства был построен Бутырский хутор для производства сельскохозяйственных опытов. Смотрителем хутора стал англичанин Рожер. В несколько лет возле хутора вырос целый благоустроенный поселок с несколькими улицами и двухэтажными кирпичными домами.
В 1837 году Московское общество сельского хозяйства признало необходимым основать в Москве земледельческий институт. Место под устраиваемый земледельческий институт было выбрано в Петровско — Прозоровском — некогда небольшой пустоши на речке Жабенке, притоке Лихоборки, принадлежавшей спервоначалу князьям Шуйским, затем Прозоровским. В 1662 году у села Семчино была построена церковь во имя Святых апостолов Петра и Павла. Именно от этой церкви и пошло новое название села — Семчино — Петровское. При Прозоровском, в 1692 году начинается устроение усадьбы и террасного парка, причем по классическому образцу французских регулярных парков. Так получилось Петровско — Прозоровское. Тогда же крестьяне построили плотину на реке Жабне, и образовался живописный каскад прудов, известных сегодня под названием Академических.
Московское общество сельского хозяйства арендовало в Петровско — Прозоровском территорию и здания усадьбы князя Прозоровского, которая в январе 1841 года по высочайшему повелению была выкуплена в казну «с целью учреждения агрономического института, фермы и других сельскохозяйственных заведений». 3 декабря 1845 года земледельческий институт был переименован в Московскую земледельческую и лесную академию. По своему статусу Московская академия была выше существовавшего к тому времени, недалеко от Могилева, Горы — Горецкого земледельческого института.
Главная слободская улица, Бутырская, особенно оживилась после открытия в 1845 года в Петровско — Прозоровском Московской земледельческой и лесной академии. Между академией и Бутырками (за огородами) появилось много дач московских жителей, и движение по улице настолько возросло, что в 1876 году по ней от Бутырской заставы до академии стал ходить «паровичок» — маленький паровоз с пятью — шестью вагончиками трамвайного типа.
В Бутырской слободе появилось несколько предприятий: «Товарищество скоропечатни Левенсон», художественно — строительно — слесарный завод Винклера, шерстяная фабрика Лутрейля, фабрика Цинзерлинга по выпуску тесьмы, ленты, шнуров, бахромы и кистей, парфюмерная фабрика Ралле, прядильная фабрика Анонимного общества, меднолитейный и арматурный завод Дергачева и Гаврилова, чугунолитейный завод Густава Листа, завод «Московского Товарищества латунного и меднопрокатного заводов Мякишевых».
Между тем, «Английское предместье» продолжало строиться вдоль Дмитровского тракта и шагнуло дальше на север, за речку Лихоборку, по обеим берегам которой тянулись многочисленные частные кирпичные заводы, так называемые «сараи», выпускавшие не менее миллиона кирпичей в год. На Лихоборке шотландцы братья Мюр обустроили химический завод
Относительно недалеко от Москвы, в Дмитровском уезде, основательно расположился шотландский купец Фрэнсис Гарднер, организовавший фарфоровое производство. Его предприятие стало лучшим частным фарфоровым заводом в России. С годами Гарднер наладил также и массовый выпуск фарфоровой посуды. Она высоко ценилась в России, и многие, кому не по карману было покупать импортный саксонский фарфор, охотно приобретали «родной», гарднеровский.
Генерал Дрозд — Бонячевский обустроился в Бутырках. Бывшая британская подданная, вдова парусинового купца Вортледжа, имевшего несколько небольших фабрик по выработке парусины и брезента, с удовольствием предоставила генералу целый этаж в своем трехэтажном частном доме, что на углу Писцовой и Вятской улиц, возле частного ботанического сада. Здесь были несколько прудов, водоемов, ручьев, а на них стаи величественных лебедей, красные пеликаны, цапли, стоящие на одной ноге, выводки громко крякающих уток. Здесь были аллеи рододендронов, поля тюльпанов, голубых колокольчиков. Здесь была высокая красная пагода, возносящая свою резную главу над всем этим неистовством мировой флоры. Под деревьями и среди цветов бегали дети, а на скамейках и стульях устраивались старики, ищущие отдыха и спокойствия…
Дом вдовы Вортледжа был интересен. Вероятнее всего «парусиновый особняк», как его называли на Москве, построили по собственному проекту известного столичного архитектора Хренова, однако достоверно не известно, сам ли он придумал этот экстравагантный ансамбль, который выделялся из общего массива построек и больше напоминает средневековый замок, нежели классическую городскую усадьбу, или ему кто –то подсказал. Основной особенностью строения стала полная асимметрия. Кроме того, для постройки практически всех элементов комплекса использовали не только привычные кирпичи, но и массивные валуны — это добавляло живописной композиции еще больший антураж Средневековья и наряду с разнящимися формами кровли и башенками создавал причудливый силуэт. Несомненно, ключевой доминантой ансамбля стал выразительный главный дом — эклектика с примесью модерна, обрамленная восьмигранным фонтаном, клумбами, цветниками и стеной хвойных деревьев. Фасад жилого дома как раз — таки больше всего и напоминал замок благодаря граненому эркеру с фигурным аттиком, прорезанным овальным окном и аккуратной башне.
В своих «апартаментах» генерал в этот вечер принимал роковую красавицу, Марию Григорьевну фон Кеттлер, с которой его связывала многолетнее сотрудничество…
…Когда в прихожей раздался тихий звук, лицо Дрозд — Бонячевского прояснилось. Он поспешно прошел к двери. Открыл, впустил молодую женщину.
-Наконец — то и вы…Я уже начал волноваться.
-На улице так темно. Хоть глаз коли… — ответила гостья, Мария Григорьевна фон Кеттлер, охорашиваясь и проходя прямиком в «апартаменты» генерала.
-Мне очень жаль, что вам приходится ходить ночью одной по городу. — сочувственно проговорил Дрозд — Бонячевский.
-Я не жалуюсь. Я только сказала.- вяло улыбнулась гостья.
-Не каждая женщина согласится на такие прогулки.
-Я хожу ради ненависти и любви. Ненавидеть всех, любить только вас — вот моя судьба…
Она направилась в спальню, стала раздеваться с непринужденностью женщины, знающей, что ее страстно желают…
Генерал посмотрел на Марию Григорьевну и сел на кровать. Она шла к нему, полы пеньюара распахивались, открывая обнаженное тело. Она не сняла лишь чулки, в которых была за ужином. Прекрасные английские чулки…Она подошла к постели и взглянула на генерала сверху вниз. Он поднял руку и развязал бантик на шее, стягивающий пеньюар. Он окончательно распахнулся, обнажая грудь, а затем, подчиняясь его руке, соскользнул на пол…
…Единственно, что серьезно омрачало жизнь преждевременно овдовевшего Григория Дмитриевича Алферьева, московского присяжного выборного окладчика*, так это непутевая родная младшая доченька, Мария Григорьевна. Как и большинство юных девушек, Мария Григорьевна стремилась избегать патриархальных московских домашних ограничений и пользовалась любой возможностью, чтобы упорхнуть из — под отцовской опеки. Она рано встретила блестящего офицера — конногвардейца, дальнего потомка курляндского герцога, Федора фон Кеттлера, «самого обворожительного в мире жокея». Ослепленная его военной формой, титулом и персоной, юная семнадцатилетняя Мари не заметила копившуюся жестокость, скрывавшуюся внутри курляндца, которого товарищи в полку называли «веселым дьяволом». Вскоре сыграли свадьбу, а потом Мария Григорьевна фон Кеттлер обнаружила, что потомок курляндского герцога весел в обществе и на людях, а жить с ним было сущим адом. Фон Кеттлер был на семь лет старше. Он был жестоким, ревнивым алкоголиком с садистскими наклонностями. Молоденькую супругу, оказавшуюся вскоре в «интересном положении», он привязывал к кровати или запирал в ванной, чтобы она никуда не могла выйти, а сам уезжал на попойки, продолжавшиеся иной раз по несколько суток.
Года через три Мария Григорьевна, вконец измучившаяся, задумалась о разводе, хотя отец ее был категорически против. Волею случая Мария Григорьевна в 1911 году оказалась в Париже и безрассудно влюбилась в очаровательного, интеллигентного дипломата, первого секретаря в греческом посольстве. Их роман продлился больше полугода, а потом он с ней попрощался, предпочтя продолжить строить карьеру успешного дипломата и уехал в Лондон, оставив молоденькую герцогиню в слезах, морально опустошенную и раздавленную.
Мария Кеттлер пустилась во все тяжкие, погружаясь в изучение любопытных сексуальных техник в борделях, заводя мимолетные романы с французскими офицерами, латиноамериканскими дипломатами и испанскими бизнесменами. Началась Большая европейская коалиционная война, границы позакрывались и Мария вынужденно осталась во Франции. Муж ее храбро сражался и погиб в лихом кавалерийском рейде в августе 1915 года. Мария, успевшая стать матерью трех очаровательных детишек, превратилась во вдову, что, впрочем, не сделало ее грустной, и никак не отразилось на образе жизни и поведении женщины, унаследовавшей кое — какой капиталец мужа.
Вернувшись в Москву в 1916 году и предприняв, по настоянию отца, несколько безуспешных попыток устроить семейное счастье в новом браке (завидных женихов было мало, а выгодные партии расстраивались ни с того ни с сего), Мария фон Кетлер вернулась к свободному образу жизни в патриархальной Москве. Григорий Дмитриевич снял для дочери роскошный дом на Ново — Александровском проспекте, с обеденным столом на двенадцать кувертов, с элегантными детскими и комнатой для рисования, которую обустроила сама Мария Григорьевна, и с прислугой из четырех человек, включая повара. Можно было устраивать приемы. Составился даже собственный «околокурляндский двор» из заезжих балтийских дворян. По Москве тотчас пошли толки и сплетни. Григорий Дмитриевич Алферьев забрал внуков к себе, желая оградить их от сомнительной компании, денно и нощно топтавшейся в доме.
Встречи с молодыми «сорви — головами» проходили довольно открыто, и не только у Марии Григорьевны дома, но и на различных светских и околосветских мероприятиях. Тайные встречи назначались тогда, когда имели место интимные отношения. В благодарность Мария дарила своим любовникам деньги, дорогие подарки. Круг ее знакомств был весьма широк, и это ставило Марию фон Кеттлер, вольно или невольно, в ряды успешных московских интриганок. Молодая вдова, из хорошей семьи, с богатыми и обширными связями, беспощадным очарованием, Мария Григорьевна быстро стала королевой эксклюзивной группы богатых посредников, авантюристов, аристократов и влиятельных деловых людей, которые были первой линией контактов осторожных политических высших сфер. В газетах стали проскальзывать эдакие пассажи: «теневой салон», «секретный дипломат номер один», «таинственный курьер Кремля»….
Ведьма, вампир, и вдобавок ко всему, высококлассная шантажистка. Язвительная, экстравагантная, резкая, провокационная, настоящая русская красавица, она привносила волнение и дерзость во время вечеринок. Мария Григорьевна выводила дипломатов, политиков, банкиров и чиновников на чистую воду, выпытывая у них нескромные подробности жизни. Ее проницательность и живость считались опьяняющими как шампанское, которое всегда лилось рекой. Это держало Марию фон Кеттлер впереди всего социального круга — известные и занимающие высокое положение личности всегда были рады получить приглашение в ее салон, игнорируя даже скандальный шлейф, постоянно тянувшийся за ней. В московском демимонде*, с плохо скрываемой обидой, досадливо утверждали, что у «суки курляндской» «в том месте» «медом намазано».
Заскучав в Москве, Мария Григорьевна вырвалась в Европу, сначала в Вену, потом в Париж, затем в Лондон, где вскоре, среди опьяненных ею, оказался герцог Вюртембергский, двоюродный брат принца Уэльского, бывший в хороших отношениях с британской королевой, другими членами королевской семьи и важными британскими политиками. Герцог, пожелавший «вкусить азиатской свежатинки», был сражен наповал. Он встречался с Марией фон Кетлер неоднократно и после того, как встречи прекратились, ежедневно присылал на ее лондонский адрес букет цветов в семнадцать роз с длинными стеблями. Число это представляло собой все случаи, при которых они спали вместе. Это было тем более удивительно для посвященных в «нюансы» — герцог слыл импотентом и, по всей видимости, только невероятные навыки веселой курляндской вдовушки могли удовлетворить его сексуальные желания.
В ноябре 1925 года Мария фон Кеттлер снова вырвалась в Европу…Нельзя сказать, что Григорий Дмитриевич Алферьев, отец Марии Григорьевны, не знавшей цены богатства, спешившей промотать все, что только могла, не умеющей жить по средствам, совсем уж махнул на свою, не в меру блудливую дщерь, рукой. Особливо обращать внимание на ее поведение заграницей он почти перестал, но беспокоился о безопасности и жизни матери трех своих внуков и потому, благодаря знакомству с князем Ромодановским, кое — какие меры все же предпринимал. В качестве одной из таких мер было «прикомандирование» к невоздержанной и взбалмошной великой княгине нескольких соглядатаев, тайных и явных. По просьбе Марии Григорьевны, для исполнения «щекотливых» поручений, а заодно и для надзора за оными, к ее «двору» был принят отставной чин Лейб — гвардии Компанейского Конно — Егерского Его Величества полка Дрозд — Бонячевский — бывший эскадронный станоставец*, сотрудник Департамента Государственной Охраны, занимавшийся контрразведывательным обеспечением. Рекомендовал его Марии Григорьевне полковник Колетти, бывший эскадронный командир.
Полковник Колетти был женат на младшей дочери одного из потомков служилого иноземца Фридриха Аша, вступившего на русскую службу после Полоцкого похода 1623 года, Анне Максимовне. Семья Ашей была многолюдной и быстро породнилась с самыми знатными русскими родами, но к российскому трону приблизиться так и не смогла, оставшись в ранге «служилых». Полковника Колетти это, впрочем, мало волновало. Он женился по любви, в жене души не чаял, кроме дома и службы, да еще поигрываний в карты, да в бильярд в офицерском собрании, и пикников, ничто его особо не интересовало. Выйдя в отставку по выслуге (немалой), с приличной пенсией, он поселился со своим семейством в сельце Изварине, на речке Лекове, неподалеку от Переделкина, в двух верстах от железнодорожной станции Внуково, в поместье, доставшемся его жене. Мария Григорьевна именно его выбрала в качестве «доверенного друга», а тот, отказавшись войти в ее «свиту» (ибо российская лейб — гвардия держалась древнего благочестия), в свою очередь, поспособствовал к привлечению Дрозд — Бонячевского, коего хорошо знал по прежней службе в полку.
Именно Дрозд — Бонячевскому суждено было сыграть впоследствии главную роль в получившем всеевропейскую известность «деле с портфелем»…
Мария фон Кеттлер приехала в Англию и пробыла три недели в Лондоне, где встречалась с представителями влиятельных британских кругов. Лорд Ротермир, газетный магнат, уделил русской красавице чересчур повышенное внимание и был вознагражден сторицей: слухи о сексуальных оргиях в поместье лорда поражали воображение, лондонские газеты в смущении отказывались сообщать какие — либо подробности происходившего (будто бы участниками «вечеринки» были леди Хьюстон — снобистская, эксцентричная миллионерша с крайне правыми взглядами, королевский конюший Миткалф, леди Синтия Керзон, советник Арнольд Лиз, известный ловелас и серцеед, большой болтун, любивший поразмышлять о том, что внешняя политика Великобритании выглядит парализованной, сэр Роберт Брюс Локхарт, бывший посланник в Стокгольме, один действующий министр и, о Боже!, кто — то из Виндзоров). Лорд Ротермир, любивший красивых женщин (увы, не в силах при этом похвастаться особым успехом), хорошие сигары и политическое вмешательство, после свиданий с Марией Григорьевной пребывал несколько времени в благостной прострации и даже забросил дела своей газетной империи…
Совершенно возможным лондонской публике представлялось, что за обеденными разговорами, а еще больше — в постели, во время любовных утех, влиятельные гости лорда Ротермира непреднамеренно делились с русской красавицей информациями, почерпнутыми из конфиденциальных бесед и документов. Об опасности утечки секретных сведений заговорили даже в Палате общин. Ее внезапный отъезд из Лондона в Париж только подлил масла в огонь. Прямо заговорили, что она могла получить доступ к курсу секретной британской политики. предпринимать против Марии Григорьевны англичане не решились, просто полагая, что существуют большие подозрения насчет русской.
Во Франции Мария Григорьевна продолжала околдовывать своих многочисленных партнеров, используя необычные методы секса, стабильно «подкармливала» газеты пикантными подробностями своих похождений.
…Гинекологические проблемы Марии Григорьевны были всегда, наряду с автомобилями, одной из главных тем европейских и московских околопридворных сплетен и разговоров. Тридцатишестилетняя мать троих детей, необычайно красивая, холеная женщина, обычно разговаривала о погоде, о ценах в парижских магазинах, об автомобилях и, иногда, крайне редко и с большой неохотой, о детях. Злые до чрезвычайности европейские аристократические языки утверждали, что каждое чаепитие с Марией Григорьевной, предпочитавшей теперь месяцев по семь — восемь в году проводить заграницей, было сущим мучением.
Так уж случилось, что году эдак в 1926 — м, Жан Дельпэ де Бре, французский аристократ из знатного рода Монморанси, давшего Франции двенадцать маршалов и коннентаблей, промотавший состояние своей первой жены, считавшейся когда — то самой богатой невестой в Париже, и перебивавшийся случайными куртажами, банковским посредничеством и элитным сводничеством, неожиданно оказался в ближайшем окружении герцогини Курляндской. Она поручила Дельпэ де Бре заняться изъятием через одного французского коммерсанта, живущего в Париже, части средств, помещенных ею в швейцарский банк.
Частые, хотя и кратковременные визиты Дельпэ де Бре в парижское отделение швейцарского банка каким — то образом заинтересовали французскую политическую контрразведку. Во время очередного визита в банковский офис контрразведчики задержали Дельпэ де Бре. В его увесистом кожаном портфеле нашли медицинские справки, выданные Марии Григорьевне хирургом из клиники в Нейи, которые предписывали ей воздерживаться от сексуальных отношений в течение многих недель, а также некоторые другие документы врачебного характера.
При обыске в маленьком пригородном доме Дельпэ де Бре сыщики из французской контрразведки обнаружили еще сто восемнадцать документов о личных и доверительных отношениях герцогини с рядом высокопоставленных лиц Франции. Похоже, что только эти документы и интересовали контрразведчиков в момент задержания Дельпэ де Бре и при обыске в его доме.
Сто восемнадцать документов и злополучный увесистый портфель Дельпэ де Бре были доставлены в штаб — квартиру французской политической контрразведки. Предстояло сделать подробную опись изъятого, копирование, после чего можно было приступать к кропотливому изучению крайне пикантных и весьма любопытных бумаг. Тут на сцене появился Дрозд — Бонячевский…
Доподлинно неизвестно, каким макаром Дрозд — Бонячевскому удалось умыкнуть портфель и сто восемнадцать злополучных документов, изъятых у Дельпэ де Бре. вместе с описью, на которой чернила еще не успели просохнуть, из штаб — квартиры французской политической контрразведки, погрузить их в автомобиль и спокойно уехать. Неизвестно также и то, как он вывозил эти бумаги из Франции.
Факт остался фактом — бумаги исчезли бесследно, Дельпэ де Бре упорно отрицал выдвинутые против него обвинения, официально звучавшие так: «Отношения, поддерживаемые с разведывательными службами одного иностранного государства и осуществление действий, направленных на то, чтобы скомпрометировать французских высокопоставленных деятелей систематической дезинформацией». Отрицал, несмотря на все обещания французской контрразведки, что его отпустят и «мы вместе будем открывать шампанское». Скандал, подхваченный французской, а затем и европейской прессой, вышел грандиозный. Глава французской политической контрразведки Анри Дантенвилль, так и не успевший снять копии с ценных бумаг. и министр внутренних дел Маршан (бывший любовник Марии Григорьевны) подали, один за другим, в отставку, официальный Париж со сдержанной яростью пытался смягчить эффект от «дела с портфелем», и через шесть дней машина правосудия Франции окончательно застопорилась. Наследник французского княжеского рода Дельпэ де Бре был освобожден, Мария фон Кеттлер сделала прощальное «au revoir*» Парижу, и оставив в королевских апартаментах роскошнейшей столичной гостиницы свое любимое летнее зеленое платье, с помпой, с фейерверком и под музыку сверкающего начищенной медью духового оркестра, отбыла в Россию, зафрахтовав для этой германский дирижабль.
Потом, в дирижабле, в криках и судорогах, она выказала Дрозд — Бонячевскому такую страсть, что он едва не сошел с ума. Было все: оглушительное сердцебиение, полуобморок, долгий озноб блаженства…Разве такое забудешь?
-…Да, да, еще! Еще! О! Да! — Мария Григорьевна кричала, надеясь, что изображает экстаз достаточно убедительно. В «исступлении» она царапнула ногтями голую спину генерала. Тот придавливал ее к постели и продолжал дергаться, стараясь проникнуть поглубже. До кульминации было еще далековато…
===============================
Шпитальной*- Szpital (шпиталь) больница.
московского присяжного выборного окладчика* — присяжный выборный окладчик — местный уездный или городской начальник, назначавший оклады служилым дворянам при традиционной явке на весенний смотр. Выборная должность.
В московском демимонде* — демимонд (устар.) — среда кокоток, подражающих образу жизни аристократок; полусвет.
эскадронный станоставец* — эскадронный квартирмейстер (фурьер) был старшим эскадронным унтер — офицером, и ведал детальной организацией расположения эскадрона на отдых, походным движением эскадрона, организацией разведки и охранения, развёртыванием эскадрона для боя.
au revoir* (франц.) — до свидания.
Пятница. В лето 7436 года, месяца сентября в 8 — й день (8 — е сентября 1928 года). Седмица 16-я по Пятидесятнице, Глас шестый.
Москва. Патриаршая слобода. Трехпрудный переулок.
…Таксомотор остановился.
-Ваш дом? Вы неплохо устроились, Серж. Не ожидала…
…Квартировал Чечель в Трехпрудном переулке. В начале XVII века, по смерти Его Святейшества Иова, на месте Козьего двора устроена была резиденция Патриарха Иоакима, а на месте болота — Патриаршая Слобода. Иоаким приказал вырыть близ слободы три пруда для разведения рыбы и разнообразия постных трапез. Такие пруды или рыбные садки были устроены в разных частях Москвы. На Пресне, к примеру, разводили дорогие сорта рыбы, в Патриарших прудах — более дешевые, для ежедневного обихода. Местность для Патриарших прудов была очень подходяща. С XVII века, постоянно освежаемые подземными ключами, содержались они в порядке и чистоте, а после 1760 года вокруг них разбили сквер. От этих «Трёх прудков», как говорили в старину, появилось название Трехпрудного переулка.
Район, прилегающий к патриаршему подворью, очень быстро стал относиться к числу престижных. Ручьи и речушки убрали в трубы, овраги закопали, поверхность земли по возможности выровняли. Территории вокруг Патриаршей слободы были разделены на участки, которые город раздавал под застройку. Задумано было создание вокруг прудов и подворья Его Святейшества места, удобного для жизни, с садами и со скверами, с широкими площадями и удобными улицами. Конечно, аристократия и богатеи предпочитали шумный респектабельный центр, зато служилое дворянство и простые горожане предпочитали селиться именно здесь.
Почти все дома были небольшими, в один — два этажа, в основном, каменными. Но промышленный бум стал быстро менять облик города. Население увеличивалось, жилья требовалось больше. Соответственно, земля стремительно дорожала. На месте дворянских городских усадеб повсеместно стали возникать многоквартирные доходные дома, то есть, многоэтажные здания в которых квартиры сдавались внаем. Патриаршие пруды постепенно обретали современный облик и превращались в довольно престижный жилой район. Не элитарный, а скорее, интеллигентский, академический, немного богемный. Впрочем, здесь появлялись дома разного уровня, аренда квартир в которых и стоила по — разному.
Целый район в Трехпрудном переулке был возведен на средства графской семьи Волоцких, строил их архитектор Эрнст — Рихард Нирнзее. Забавно, что почти все подъезды в домах были разные — владельцы не имели достаточно средств, а кредит брать не хотели, посему возводили их постепенно, по мере накопления ресурсов. При этом учитывали запросы жителей и по ходу меняли проект…
Чечель взял Елену Львовну за руку.
-Право, зря…Я прощусь с вами здесь. — сказала Елена Львовна.
-Ну, что с вами?
Чечель легко, будто играючи, притиснул ее как куклу, держа одной рукой за талию, а другой под ляжками, в дверцу автомобиля. Она почувствовала, как по ее шее снизу вверх, оставляя за собой влажную полоску, медленно проскользнул щекочущий язык, затем переместившийся на ее ушко. По всему телу женщины пробежала легкая дрожь. Губы Чечеля, не меняя ритма, продолжали свои трепетные прикосновения, между тем как правая рука ухватисто, потихоньку, осторожно, даже как бы нехотя, но при этом совершенно безаппеляционно, освобождала под ее плащом, из петелек, одну за другой, пуговички жакета…
-Довольно же. — Елена Львовна была изумлена или сделала вид, что изумлена.
-Вы слишком потрясающе, вы прелестны. — с корявой галантностью ответил Чечель.
-Что за вздор? Вы ведете себя как мальчишка. Не ожидала, что вы окажетесь столь безумным и столь безразличным…Смешно. Мальчишка…
Вдруг Елену Львовну осенило:
-Погодите — ка…Да ведь это мистификация! Черт знает, откуда вы взяли про моего мужа, давеча, в ресторане? Это ведь не ваше! Признайтесь!
-Каюсь. Грешен. — Чечель развел руками. — Одна писательница, из молодых, накропала душещипательно. Я… почерпнул.
-Почерпнули?! Слямзили самым бессовестным образом. И мне со столь умным видом втюхали! А я поверила, дура! Поверила! Купилась!
-Но, согласитесь, в точку…
-В точку?! О, да! Это верно!
-А зайти ко мне не опасаетесь? Только предупреждаю сразу — у меня беспорядок…
Шоффер таксомотора, степенный кряжистый мужчина, в продолжении всей этой сцены хранил молчание и был невозмутим…
…Когда Елена Львовна вошла в квартиру, поставила свою сумочку на трюмо и остановилась, поправляя волосы, Чечель, совсем просто, подошел к ней сзади и обнял выше талии. Он стал покрывать жадными поцелуями золотистый пушок на ее белой шейке. Он держал ее всю, прижимая свои колени к ее ногам и сливаясь грудью с ее плечами. Она закричала:
-Пустите же меня!
Чечель поступил ровно наоборот: он поднял ее как куклу, держа одной рукой за талию, а другой под коленями, прошагал в спальню и бросил ее как куклу на кровать. Не зажигая огня, он начал раздеваться; торопливо развязал галстук, расстегнул подтяжки, сел на постель. Он закурил папиросу, и зарево спички в дрожащей руке осветило на секунду узкую ленту его вдруг посеревших губ.
Не говоря ни слова, Елена Львовна приподнялась, села на кровати, распустила волосы, потом поднялась, стала хохотать, одновременно раздеваясь. Через минуту на ней ничего не осталось, кроме ажурных французских чулок, прозрачно — тонких. Чечель смотрел на Елену Львовну: от прежней богини почти ничего не осталось — бледная кожа, кое — где родинки и веснушки, аккуратная упругая грудь, подплывшая талия, живот, ожерелье на шее. И глаза — каре — зеленые, бездонные глаза…
-Я начинаю сожалеть.
-О чем?
-Что в мире существуют подобные вещи. Вы слишком медлительны…Не ожидала, что вы окажетесь столь безумным и столь безразличным…Смешно. Мальчишка…
Чечель усмехнулся и неожиданно поцеловал Елену Львовну в губы. Но не жадно, а нежно коснувшись её губ. Потом поцеловал её под ушко, потом захватил мочку уха и нежно потянул, втягивая в рот. Положил ладони на горящие, раскрасневшиеся щеки. Водя пальцами по лицу, словно слепой, ощупывая с нежностью и нос, и уши, и губы, он обжег ее ласковыми прикосновениями. Ответом, как и полагается, был томный вздох…
Он лег в нее…
Суббота. В лето 7436 года, месяца сентября в 9 — й день (9 — е сентября 1928 года). Седмица 16-я по Пятидесятнице, Глас шестый.
Москва. Патриаршая слобода. Трехпрудный переулок.
Елена Львовна вышла из ванной комнаты в короткой юбке для лаун — тенниса и маечке, облегающей ее упругую, аккуратную грудь. Чечель, расхаживающий в спальне по мягкому ковру, охнул, увидев ее, с голыми щиколотками, в носочках и теннисных тапочках, со слегка подкрашенными губами и глазами.
-Что? — спросила она, услышав его вздох, и добавила скучным голосом, — Признаю, я выгляжу очень волнующе.
-Более чем. — кивнул Чечель. — Спортивная форма к лицу. — Она все время была в сумочке?
Елена Львовна кивнула, слегка пригладила волосы, поправила голубую ленту на голове и подошла к большому зеркалу в спальне. Потом прошла по комнате, подошла к креслу, подобрала под себя ноги, по — домашнему усевшись в кресле. Ее, казалось, ничуть не заботило то, что он мог видеть часть гладких белых бедер.
-Действительно, волнующе. — сказал Чечель.
-Ничего не поделаешь. — ответила любовница палача, покусывая ноготок.
Она все же одернула юбочку, слегка прикрыв заголившиеся ноги и озорно хихикнула. Над правой бровью, у самой переносицы, у нее появилась нежная ямочка.
-Давно хотела спросить, Серж…Вы сильно хромаете, как и генерал…Последствия ранения? Войны?
-Хромаю? Да…Право слово, не самые приятные воспоминания. Я ведь не спортсмен. А моя хромота — последствия неудачного падения с лошади. Не люблю об этом рассказывать.
Он и в самом деле не любил рассказывать о своем ранении. И вспоминать не любил…

…Поезд был очень хороший, настоящий, санитарный. Княжеский. Оборудованный на средства княгини Веры Игнатьевны Гедройц из древнего и знатного литовского княжеского рода Гедройц. Кригеровские вагоны с ярусными койками во всю длину. Вагоны II — го и III — го класса со станками Коптева на рессорах для легкораненных и больных. Перевязочная, аптека, вагон — кухня, столовая, прачечная, кладовая с ледником, багажная. Служебные вагоны. Свет, чистота. Внимательные врачи, сестры, няни.
…«Ягеллончики» протиснулись в вагон — лазарет для тяжелораненных, оборудованный станками Кригера, с примкнутыми штыками, и увидели деревянные носилки, вставленные в специальные подставки, заполненные раненными.
-Пся крев!
-Назад!
-Нех их!
-Не трогайте раненных!
-Нех их вишеци дьябли ведмо!
-То нет!
-Забичь вшистских!
-Прекратите!
-Драни! Закончичь!
-Гниде безрадне!
-Люди вы или нет?!
-Выйщце!
…Поляки перебили всех раненых — они разбивали им головы прикладами. Раненые солдаты вопили от ужаса. Затем «ягеллончики» принялись за сестер милосердия — с них срывали одежду, и слышно было на перроне, как женщины визжали…
…Возле пакгауза стоял рев, как на соревнованиях по боксу. Пьяный польский офицер в барашковой шапке стоял посредине пакгаузного двора, у наспех сооруженной виселицы, где уже болталось несколько раздетых до исподнего трупов и безумно хохотал. Сестер милосердия из санитарного поезда гнали через двор раздетыми догола с руками за головой. С их ног стекала кровь. За ними тащили доктора и старуху княгиню в разорванном платье. Всех подогнали к виселице. Когда «ягеллончики» вешали первую из сестер милосердия, пьяный хохочущий офицер сам выбил у нее из — под ног кирпичи, на которых она стояла. Чечель больше не мог на это смотреть…
-Почекай, москаль, почекай! — злорадно крикнул «ягеллончик» и сильно ткнул Чечеля штыком в ногу.
От боли Чечель потерял сознание…Он уже не видел, как польский солдат, прижав шею молоденькой сестры милосердия к кирпичной стене пакгауза, деловито вспорол ее тело от живота до горла…