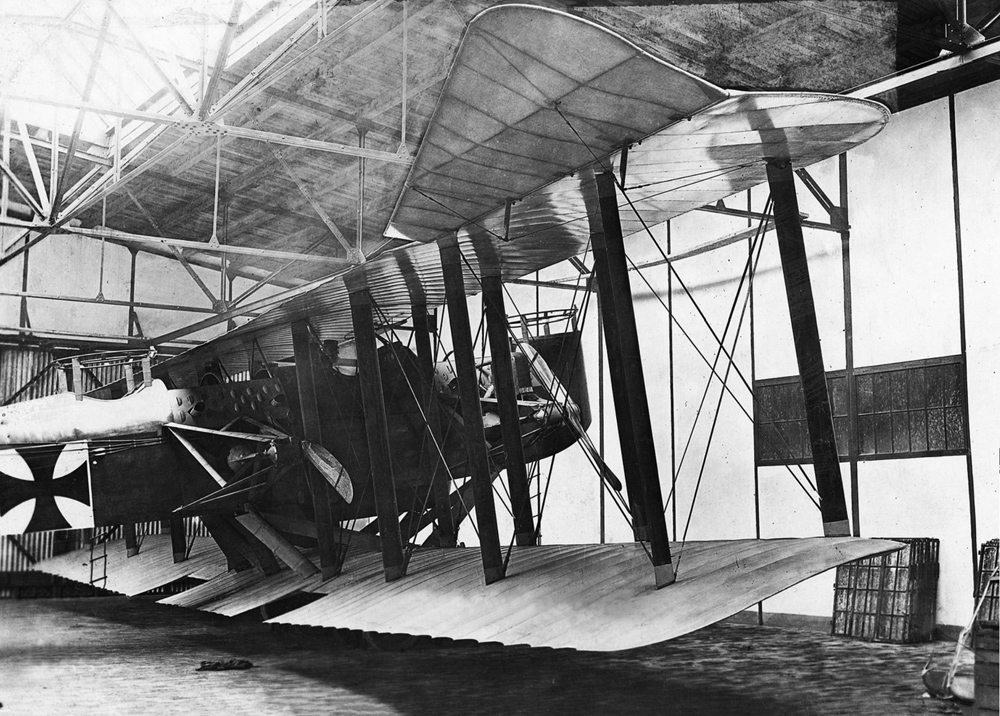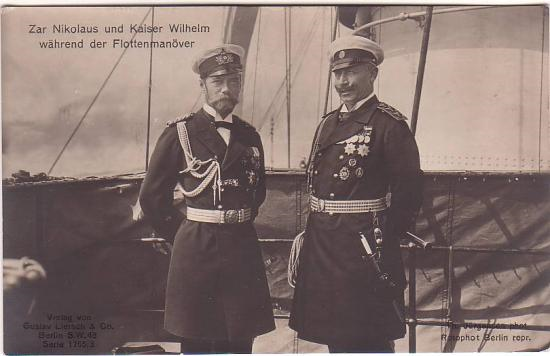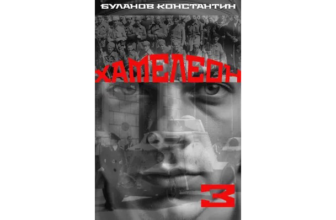Постапокалиптическая антиутопия по мотивам народной сказки
В те давние славные времена, когда Россия была забытой Богом мелкой аграрной страной, которую в Европе и на картах-то не каждый раз прорисовывали, правил нашей великой державою грозный царь Василий Иванович со своим адъютантом Петькой. Уж тридцать лет прошло, как супругу свою, Марью Петровну, отправил Государь в Суздальский Покровский монастырь, но несмотря на то, что царь был еще молод душой и крепок телом, вторично он жениться не стал, храня верность бывшей супруге, а жил с одною девицею просто так, не обременяя ея красоту брачными узами.
Была у нашего Государя дочь – Евдокия Васильевна. Круглолица, румяна, дородна – прямо как с картин Петра Палыча Рубенса – художник был когда-то такой, из Фландрии – тогдашней Гишпанской провинции. Но был у нашей царевны один мелкий изъян. Не изъян даже, а так – лёгкая девиация. Выражалась эта девиация в том, что страдала Евдокия Васильевна, как называли это тогдашние доктора, меланхолией. Сидит она с утра до вечера в душном тереме, подбородок ладонью подопрет, мизинец в нос на вершок засунет, и так грустит, что посмотришь бывало на нее – самому тошно становится. Пробовали ее, конечно, развеселить – дур ряженых нанимали, баб бородатых, шутов гороховых, уродцев таких, что от одного виду их со смеху падаешь. Ничего не помогало. За эту самую меланхолию народ наш прозвал Евдокию Несмеяной, и так это прозвище к ней присосалось, что порой иные прошловеды так ее Несмеяной Васильевной и величают. Конечно, время ведь тогда смутное было, поэтому они его смутно помнят.
Доктора, конечно, Государя нашего успокаивали – пройдет, говорили, с возрастом, но возраст проходил, а меланхолия вместе с ним проходить и не думала.
По той же самой причине никто из принцев тогдашних брать Несмеяну в жены не хотел – своих принцесс в Европе хватало и у каждой были свои изъяны не меньше наших. А окромя того, принцы европейские любили тогда не столько принцесс, сколько город Париж. Целыми ночами, они, говорят, с гитарами там под луною бродили, если, конечно, есть в Париже луна, а так не знаю, что у них там по ночам светит.
Долго царь думал, как ему поступить. Не за Петьку ж ее выдавать. Он хоть и адъютант царский, и происходит из знатной хвамилии, но как был дураком, так дураком и остался – ни погоны, ни аксельбанты ума ему не прибавили, только к дури его еще и гонор непомерный добавился.
И вот однажды, когда Василию это всё надоело, он решил объявить указ, что сделает наследником и зятем того, кто Несмеяну рассмешит. Взобрался на трибуну Мавзолея и выступил с этим указом по радио на всю Россию от Твери до Тулы и от Смоленска до самого Нижнего Новгорода.
* * *
А в те же самые давние славные времена в двадцати верстах от Москвы стояла на Калужской дороге деревушка под названием Коньково. Кто был этот Коньков, в деревне не ведали, а болтали лишь про то, что раньше сей населенный пункт назывался Ханькоу. Говаривали также, что первыми его насельниками были китайцы, родом своим происходящие из одноименного китайского городка, которые раньше жили в Китай-городе, называвшемся в стародавние времена Чайна-тауном. Но после того как царь Симеон выслал из Москвы всех китайцев, они, чтобы далеко не ходить, основали под Москвою сельцо и дали ему название своего родного китайского городка Ханькоу. И хотя в самом Китае Ханькоу уже не существует – слилось оно с Учаном и Ханьяном в одну большую Ухань – память о том городке живет теперь на русской земле по сию пору.
Дорогу Калужскую старики тоже иной раз по старой памяти называли Профсоюзной, но в какой-такой Профсоюз она раньше вела, опять же никто не ведал. Дорога эта когда-то была концом Муравского шляха. По этой степной тропе, скрытой с обеих сторон высокой травой, ходили на Москву полчища степняков, сжигая на обратном пути деревни и села и угоняя в плен население тогдашней Московии. Так было до тех пор, пока на речке Оке, невдалеке от впадения в нее реки Угры не построили город-крепость с рыбьим названием Калуга. Почему ее так назвали? Не знаю. Ни в Оке, ни в Угре калуги не водится. В Угре водятся угри, а в оке – окуни, потому ее Окой и зовут, а Угру – Угрою. Но несмотря на то, что калуги под Калугой не водятся, стала Калуга надежной преградой на пути крымцев.
Нельзя, конечно, сказать, что набеги после этого прекратились – крымчаки стали сворачивать с Муравского шляха на Изюмский, а с него на Ногайский и приходили грабить Московию уже по другой дороге – по Рязанской. Но тот отрезок Муравского шляха, что шел от Москвы до Калуги стал безопаснее и получил название Калужской дороги.
В этой самой деревне и жил тот самый Емеля, о котором я и хочу вам сейчас рассказать.
Емеля был младшим ребенком в семье, и потому, когда была большая война с Крымским ханством, на фронт он не попал, а отец и двое старших братьев пропали на той войне без вести. С тех пор остался Емеля у матери один, и жили они с матерью в доме с прохудившейся крышей и сорванной ветром антенной. И, хотя исполнилось Емеле полных шестнадцать лет, не был он до сих пор женат. За что его Емелей прозвали, за давностью лет теперь никто уже и не помнит. Одни говорят за то, что всё он умел, другие же утверждают, что за то, что всех он имел, в переносном, конечно, смысле.
С образованием Емеле повезло мало. Раньше, при старом-то настоятеле Троицкого собора, была в селе приходская школа, но когда в приход был назначен отец Герасим, школу эту закрыли: нечего, мол, грамотность разводить, а то еще дарвинов всяких поначитаются, залезут на деревья как обезьяны и будут таким путем от работы отлынивать.
Хотел отец Емелю в Зюзинскую волостную школу послать, но тамошние школьные учителя, а особенно школьныя учительныцы, вечно были пьяны в самую зюзю. А что тут удивляться? В Зюзине все такие – за это оно Зюзиным-то и зовется.
И вот однажды хмурым февральским утром, когда у матери иссякли всякие надежды дождаться с войны мужа и старших сыновей, пришлось ей послать за водой непутёвого Емелю.
Слез Емеля с печи, натянул потертые джинсы, и, шелестя по мокрому снегу промокающими лаптями, нехотя побрел к замерзшей реке, пиная по дороге пустую пепси-кольную банку. Пройдя мимо заколоченной школы, Емеля спустился к реке, и, выйдя на ее середину, там, где лёд потоньше, достал из кармана гексолитовую шашку. Запалил он от своей беломорины огнепроводный шнур и забросил шашку подальше на лёд. Взрыв громыхнул на всю округу, и вороны, до этого мирно куковавшие на ветвях, взлетели с деревьев и громко раскудахтались. Говорят, что раньше вороны лишь каркали, предвещая своим карканьем снежную погоду, но то ли от окружающей среды, то ли от черного вторника, то ли от чистого четверга, а может и от седьмой субботы стали они куковать, лаять, кудахтать, а порой и ругаться матом.
Подойдя к образованной взрывом проруби, Емеля опустил в нее ведро, и, зачерпнув воду, поставил его рядом на лёд. Опустил он в прорубь и второе ведро, и тут заметил плавающую в проруби чью-то наглую рожу.
«Утопленник», – подумал про себя Емеля, и, ухватив рожу за волосы, выволок своими ручищами её обладателя наружу.
На руже рожа неожиданно завопила человеческим голосом:
– Какой я тебе утопленник?
– Я ведь про себя подумал, – удивился Емеля.
– Нет, подумал ты именно про меня, – уточнил утопленник, – а я вовсе не утопленник. Я – царь подводных глубин Посейдон.
– Кто ж дон сеять будет? – ещё больше удивился Емеля. Посеять можно рожь, пшеницу, ключи от дома по пьяни, но как можно посеять целую реку?
– Да не от слова «сеять», – возмутился царь водных глубин, – а от слова «сей», то есть, «этот». Вот по сей Дон, – показал водяной пальцем в прорубь, – я царь. А на Среднем Дону, ниже Воронежа, царствует другой царь – Пототдон.
– Так ты что, Нептун значит?
– Никакой я не птун, и никаким птуном никогда не был, – подтвердил водяной, а потом, подняв вверх указательный палец проговорил:
– Аз есмь царь.
– Никакой ты не царь, – возразил Емеля. – Нет у нас царя, кроме Василия Ивановича, и Петька адъютант его. А тебя, самозванца, надо сдать в тайную канцелярию. Там тебя дыроколом проколют и к делу подошьют.
– Не сдавай меня, мужик! Я могу выполнить любое твоё желание, ну, в разумных, конечно, этих, как его, пределах.
– А где эти пределы проходят? – переспросил Емеля.
– Ну, как сказать, – задумался водяной и, почесав затылок, произнёс: – папой римским я тебя, конечно, сделать не смогу, а вот председателем – это всегда пожалуйста.
– Очень мне это надо, чтоб меня каждую неделю в райкоме отчитывали за невыполнение плана.
– А ты скажешь «по щучьему велению», и план выполнится. Это тоже в моих силах. А хочешь, я тебя полковником сделаю. Могу даже сделать тебя Героем России, правда, посмертно.
– Не-е, полковником тоже быть не хочу. Очень мне надо, чтоб меня в штабе каждую неделю отчитывали за недостатки в боевой и политической подготовке.
– А ты скажешь «по щучьему велению», и все недостатки сами собой устраняться. А хочешь, я тебя сделаю этим, как его… Да, что я тебе предлагаю? Скажи «по щучьему велению», и сам станешь кем захочешь.
– Честно говоря, никем я быть не хочу. Хочу всю жизнь на печи сидеть, в ГТА играть. И чтоб ведра сами домой воду таскали и вообще всё, что я бы ни пожелал, всё само собой исполнялось.
– Вот и попробуй! – промолвил водяной.
– Попробуем, – ответил Емеля и произнес: «По щучьему велению!».
Ведра, которые до этого мирно стояли с обеих сторон от Емелиных ног, неожиданно качнулись и, переваливаясь с боку на бок, двинулись в сторону дома.
– А при чём здесь какая-то щука? – спросил Емеля, опомнившись от удивления.
– Для конспирации, – пояснил водяной. – Сам же про тайную канцелярию говорил. Если кто что услышит, то пусть на щук и пеняют.
* * *
Придя домой, вёдра запрыгнули на лавку и замерли, ни капли не пролив. В тот же миг мать вылезла из погреба и, увидав вернувшегося Емелю, произнесла:
– Ну что, вернулся? Вот, молодец! Можешь ведь работать, когда захочешь. Съезди-ка теперь за дровами. А то печку топить уже нечем.
«Легко сказать, съезди, – подумал про себя Емеля, – лошадь еще прошлою зимой сдохла, а новую до сих пор купить не на что. Опять к председателю переться, кобылу для поездки выпрашивать. С другой стороны, председатель обязан помогать населению: кому трактором огород вспахать, кому рубероид для крыши выделить. На то он над нами партией и поставлен. Но наш-то ни шиша не помогает, только трудодни считает, да продналог требует».
Емеля с самой весны был с председателем в ссоре. Когда в апреле по инициативе Центрального Комитета ВВП – Всероссийской Верноподданнической Партии – был устроен очередной верноподданнический субботник, Емеля на него идти отказался, сославшись на четвертую заповедь декалога «асерет-а-диброт». Написано ведь в Писании: «Помни день субботний, чтобы святить его, не делай в оный никакого дела». Однако председатель Писания не читал, и объявил Емеле выговор, а Емеля за это написал на заборе «Притсидатиль нашъ – казёлъ», и хотя подпись свою он под этой надписью и не поставил, все сразу догадались, кто это мог написать.
По этим самым причинам идти к председателю за лошадью Емеле не хотелось, и тут он вспомнил про щучье веление. Выйдя во двор, Емеля погрузил багажник ржавых саней пилу и топор и, сев за руль, произнес: «По щучьему велению!». Сани резко рванули с места и, протаранив закрытые ворота, выехали на деревенскую улицу. Обогнав еле плетущийся паровой трактор, Емеля выехал на обледенелое шоссе и во весь опор помчался к лесу. Увидев мчащегося без лошади односельчанина, селяне показывали пальцем и крутили у виска.
Лишь один отец Герасим, который в ту минуту шагал в поддатом настроении с утренней литургии, ни у виска не покрутил, ни пальцем не показал. Не положено рукоположенным таким рукоблудием заниматься – ни у виска крутить, ни кукиши показывать, ни средний палец оттопыривать. Он просто подошел к сидящим на лавочке старушкам, горько присвистнул и произнес:
– Дык-эдак, он на всю нашу волость беду-то накликает. Вон, прошлым летом в Чесменке один тамошний ведьмак-террорист тоже вот-так-вота без лошади в тарантасе поехал по какому-то, говорят, сучьему велению. Так вслед за этим в Сукином болоте какой-то древний ящер пробудился и давай девок таскать. А потом во всей их деревне в августе холода наступили и вся капуста померзла.
Услышав это, бабки запричитали и заохали.
Тем временем Емеля мчался к тому самому логу, в котором рубил дрова еще его прадед. Прадед его был первым в роду, кто пересел с машины на лошадь в тот печально памятный год, когда в конце столетнего междуцарствия в мире закончилась нефть. Когда школа еще работала, был среди учебных предметов предмет хистории или, по-русски говоря, прошловедения. Учитель-прошловед приезжал два раза в неделю из Зюзина и, отхлебнув для развязки языка из дорожной фляжки, рассказывал детям про те сказочные времена, когда целых сто лет Россия прожила без царей. В те давние времена лошадей почти не было – не нужны они были вовсе, так как все ездили на самоходных телегах – в них заливали горючую жидкость, но не самогон, а ту, что из нефти гнали. Страшно чадили тогда эти телеги, и в воздухе стоял смрадный дым. От этого до сих пор дожди кислотные выпадают, а от них уроды рождаются, да рыбы разговаривают.
Но в один прекрасный день нефть кончилась, и в те самоходные телеги стали впрягать лошадей и ездить по-человечески. Такой была и телега прадеда. Летом она ездила на деревянных колесах – гуттаперчевые давно износились, а зимой ее, поддомкратив, пересаживали на полозья, и получались отличные сани.
Думая это, Емеля пересек по льду замерзшую речку Чертановку и въехал в дремучий Битцевский лес. Распахнув багажник, он снова произнес ту же самую фразу, и топор с пилою сами начали лесозаготовку, а джутовый баул сшитый матерью из китайского мешка, начал носиться по лесу и сам собирать в себя пустые бутылки.
Набрав полный багажник дров, и привязав к верхней решетке пару дополнительных вязанок, Емеля отправился в обратный путь и вскоре по бывшей улице Островитянова добрался до Старой Профсоюзной дороги. Заснеженные ветви деревьев загораживали обзор, но Емеля и не думал притормаживать.
Он, конечно же, знал, что выезжает на главную, но подумал, что там никого нет, а в это время по Старой Профсоюзной дороге ехал из Польши в Москву королевич Владислав. Польская дефензива осуществила радиоперехват указа царя Василия, и король Сигизмунд решил воспользоваться ситуацией и, женив сына на Несмеяне впоследствии объединить обе державы.
И вот в тот момент, когда Емеля, надавив на акселератор, попытался поскорее проскочить Профсоюзную, прямо перед его носом возникла расписная паровая карета. Емеля нажал на тормоза, но было уже поздно. Сани его долбанули карету в правый борт. Карета перевернулась, и ее седоки вылетели наружу и оказались в сугробе, из которого торчали только их ноги. Сани же без видимых повреждений продолжили путь и, свернув на академика Арцимовича, скрылись из виду растерявшегося польского конвоя.
Лишь доблестный капрал Тадеуш Бжехва, который знал наизусть все сорок две русские буквы и даже умел из записывать, сумел запомнить Емелин номер.
И вот, с трехчасовым опозданием польский кортеж въехал в Пречистенскiя ворота. Разбитую карету тянула четверка лошадей, а принц с перевязанной головой и весь в грязи ехал на капральской лошади, примостившись сзади за спиной у Бжехвы. Народ стоял на пути следования конвоя и размахивал бело-красными флажками, а Владислав в ответ помахивал шляпой и посылал дамам и барышням воздушные поцелуи.
Проехав сначала по Пречистенке, потом по Волхонке, кортеж свернул на Знаменку и, переехав по мосту реку Неглинную, торжественно въехал в Боровицкiя ворота. Вскоре он оказался на Царской площади, где длинная шеренга девиц в кокошниках с хлебом и солью встречала прибывшую делегацию, а вдоль постеленной для принца ковровой дорожки стояла стрелецкая рота почетного караула, одетая в парадные бирюзовые кафтаны с позолоченными аксельбантами и древними карабинами Симонова с залитыми на всякий случай свинцом стволами и окрашенными под блестящий металл деревянными штыками.
В разгар торжественной церемонии сам государь вышел навстречу дорогому гостю и, сняв шапку Мономаха, специально для этого случая извлеченную из Оружейной палаты, отвесил земной поклон, после чего, с трудом разогнув радикулитную спину, подошел к принцу и поздоровался с ним за руку.
Принц было хотел что-то сказать, но тут вперед вылез капрал Бжехва и на чистом русском языке произнес:
– – Имею чшэсть доложшитчь, Важше Величшэство, что на учшастке пути Коньково–Беляево мы были атакованы. Какой-то мужик сшиб нашу бронированную карету своими дурацкими санями. Но вы не извольте беспокоиться, я этого наглеца номер запомнил и вот сюда записал.
Сказав это, капрал протянул государю капральскую визитку, на одной стороне которой было написано: Brzechwa Tadeusz, Kapral, Wojsko Polskie. На другой же простым карандашом был нацарапан номер ЮЗ 22-12. Буква «Ю» ясно показывала, что номер был выдан на юге Подмосковья, а «З» свидетельствовала о том, что транспортное средство состоит на учете в Зюзинской волости, а сумма 22-12 означала цену бутылки водки до реформы 1961 года.
В этот миг рота почетного караула повернулась направо, заиграл военный оркестр и стрельцы, зашагав прочь, затянули строевую песню:
Чем больше в армии дубов,
Тем крепче оборона.
Оснащены мы до зубов,
Висят на нас погоны.
Всегда заряжен пистолет,
Блестит стальная сабля,
И мамки кузькиной портрет
Висит у нас в казарме.
И если лютый враг придет
С мечом и наглой рожей,
То непременно пропадет
На нашем бездорожье.
А если этот враг сидит.
За океаном где-то,
То мы ему зафенделим
Ядрёную ракету.
* * *
На другой день Емеля сидел у себя во дворе и закрашивал при помощи аэрозольного баллончика поврежденный в аварии бампер саней, когда мимо его двора проходил сельский унтер-полицай Ерема. Заглянув через невысокий забор, он произнес:
– Тут на тебя от населения жалобы поступают. Федора говорит, что ведра твои корову ее так напугали, что она нестись перестала.
– Брешет твоя Федора, – ответил Емеля, не поднимая головы, – корова ее сроду ничего не снесла.
– А вот я пойду и председателю доложу, – посмотрим тогда, кто из вас брешет, – сказал Ерема и, поправив полицайскую повязку, важно зашагал по улице. Путь его лежал в местный полицейский участок, где за письменным столом заседал начальник опорного пункта обер-полицай Фома с ефрейторской лычкой на вишнёвых полицайских погонах, а у него на столе лежали очередные жалобы на Емелю от местных жителей.
– Провел я с ним профилактическую беседу, – отрапортовал Ерема, переступив через порог.
– А он что? – спросил Фома.
– Не поддается.
– Как это не поддается? – удивился обер-полицай, – ты ему удостоверение в морду показывал?
– Показывал, – соврал Ерема, – не подействовало.
– А затвор Шмайссера над ухом у него передергивал?
– Передергивал, – снова соврал унтер-полицай, – тоже не помогает.
– Ну что ж, делать нечего, придется председателю доложить, а заодно гаупт-полицаю в Зюзино рапорт отправить – резюмировал обер-полицай и, обмокнув в чернила перо, поставил под рапортом размашистую подпись.
Уже через пять минут Фома вышел из опорного пункта и направился в сельсовет к председателю. Ерема же завёл лисапед и помчался в зюзинскую полицейскую часть с только что подписанным донесением.
* * *
Председателя в сельсовете не оказалось. Дома Фома его тоже не смог найти, а не найдя, направился прямиком к агрономше. Сани председателя стояли на агрономшином дворе, и обер-полицай понял, что выбрал для поисков правильное направление. Подергав за привязанный к калитке коровий хвост, Фома позвонил в колокольчик.
– Чего тебе, легавеньгкий? – осведомилась агрономша, выглянув из окна.
– Да мне жена нашего председателя, сказала, что он быть должен непременно у вас.
Через минуту, на ходу застегивая штаны, к калитке подошел председатель.
– Что за срочность? – строго спросил он.
– Да вот, меры надо принять, сигнал поступил.
– На Емелю? – догадался председатель.
– На него сáмого, – подтвердил Фома.
– Надо принять, – согласился председатель, – мне ведь в своих обращениях граждане тоже указывают на его безобразное поведение. Но мне надо сначала с волостью согласовать, а у нас телеграф не работает. Ты бы своего Ерему с письмом в управу послал – пусть они нам телеграф-то починят, а мы потом по телеграфу всё и согласуем.
– Да ведь я туда ж его и послал, только не в управу, а в волостную полицию.
– Жалко, – резюмировал председатель. – Ну, значит, не судьба, тогда в другой раз.
– А вдруг Емеля еще чего натворит? – предположил Фома. – С нас же потом ведь и спросят. Почему, скажут, мер не приняли.
– Тоже верно, – почесал в затылке председатель. – А почему не приняли?
– Мы со своей стороны уже всё испробовали: Ерема ему и удостоверение показывал, и затвор Шмайссера над ухом у него передергивал – ничего не помогает.
– А что если ему хату поджечь? – Предложил председатель.
– Это идея, – согласился Фома.
* * *
Тем временем, Емеля, закончив покраску бампера, сидел у самовара и пил водку с чаем. Остатками бамперной краски он выкрасил также и самовар, и теперь на всю его кухню разносился жуткий запах едкого ацетона. В ту самую минуту в окно к нему постучали. Протерев запотевшее от горячего чаю оконное стекло, Емеля увидел стоящего во дворе шинкаря.
– Чего тебе, Ирод Иудович? – спросил Емеля, открыв форточку.
– Что это ты в кабак не заходишь, – поинтересовался шинкарь, зажав нос от повеявшего из окна ацетонного запаха.
– Мне теперь в кабак ходить незачем, – ответил ему Емеля, – у меня водка теперь сама льется прямо из самовара, только успевай заварку в стакан подливать.
– А зачем же к водке заварка? – удивился шинкарь.
– Как зачем? – чтобы мать не заметила. Пусть думает, что это я чаи распиваю.
– А как же запах?
– Да разве же сквозь ацетон что почувствуешь?
– А ведь это мысль, – согласился Иудыч, – я теперь тоже буду в горилку ацетон добавлять. Идет к примеру Фрол из моего кабака, а навстречу ему Ерема: «А ну-ка дыхни!». Фрол дыхнет, а Ерема сквозь ацетон никакого перегару-то и не учует.
– Кто этот тут про меня что говорит? – послышался грозный голос Еремы из-за забора, – вот, видишь, Емеля, – показал он пакет, удерживая лисапед между ног, – повез про тебя донос в самое что ни на есть Зюзино.
Сказав это, Ерема плюхнулся в седло лисапеда и тот, резко сорвавшись с места, быстро понес его в сторону Профсоюзной дороги.
– Посмотрим, что он туда довезет, – произнес ему в след Емеля и, подмигнув шинкарю, произнес ту самую фразу, которой его вчера научил водяной.
* * *
Гаупт-полицай Парамон важно сидел за накрытым красным сукном дубовым столом под висящим на стене портретом нашего государя, когда в его кабинет вошел штабс-полицай Магомет с тремя золочеными лычками на погонах.
– Ваше високоблагородие! – начал он свой доклад, скрывая акцент под надвинутым глаза козырьком. – Прибиль коньковский унтер-полицай с письмом от Фомы.
– Читай, – скомандовал Парамон, надевая очки.
Вскрыв Ерёмин пакет, Магомет начал читать: «Дошло до нас, что ты, старый дурак, вместо того чтобы собрать прежние недоимки и вести на селе порядок, одурел и строишь пакости…»
– Это что он себе позволяет? – покраснел от возмущения Парамон. – Ну-ка доставить его сюда!
Магомет, грозно сверкая лычками, выскочил в приемную и с криком «Зарэжу!» бросился на Ерёму и начал бить ему морду.
– А чё сразу я? – прогнусавил коньковский унтер-полицай, вытирая кровь, текущую из разбитого носа, когда разъяренный Магомет втащил его в кабинет гаупт-полицая. – Это ж не я написал. Я и писать-то сроду не умел, иначе давно бы стал обер-полицаем, поскольку Фома наш – круглый дурак, и если бы он не был грамотным, его б давно вышибли из полиции на самую дальнюю пенсию.
– А рапорт Фома при тебе писал? – смягчившись, спросил Парамон.
– При мне, при мне, – снова соврал унтер-полицай, – вот, и подпись его ткнул он пальцем в письмо, оставив на бумаге кровавый отпечаток, – видите, ваше, высокоблагородие, вместо фиты ферт торчит, следовательно, подпись евойная.
– Ты же только что сказал, что писать сроду не умел, – хитро взглянул на него из-под очков Парамон.
– Так точно-съ. Сказал-съ! – начал выкручиваться унтер-полицай. – Сроду-то я писать не умел, пока в школе не научили-съ.
– Ладно, – простил его Парамон, – нам такие правдолюбы, как ты, на местах очень нужны. Хочешь быть обер-полицаем?
– Так точно-съ! – радостно выкрикнул Еремей, и снова подтерев нос, отдал честь.
* * *
Проснувшись после вчерашнего банкета, царь Василий выпил натощак огуречного рассолу и принялся разбирать важные государственные бумаги. Разбирая, он складывал их в две стопки. Бумаги из левой стопки поступали истопнику для растопки камина в государевой опочивальне. Бумаги же из правой отправлялись затем в сортир для неотложных государственных нужд. Часа через пол туда же по неотложной государственной нужде отправился и сам государь. Совершив там все государственные дела, Василий вернулся в свой кабинет и тут же обнаружил на столе ранее незамеченную бумажку. Бумажка эта оказалось визиткой того сáмого польского капрала, который вчера так нагло представился государю.
Дёрнув за шнурок, Василий Иванович вызвал адъютанта Петьку:
– Приведи-ка ко мне этого, как его… – скомандовал царь, показав Петьке позолоченную визитку с коронованным белым орлом.
– Будет сделано, – отчеканил адъютант, отдал честь и, повернувшись кругом на левом каблуке, потерял равновесие и шлёпнулся на паркет, громко ударившись об него остроконечной парадной каской.
– И когда ты строевым приёмам научишься? – покачал головой государь.
– Виноват! – виноватым голосом извинился Петька и столь же виноватым шагом направился к двери.
Через четверть часа навытяжку перед государем стоял заспанный и небритый глава дорожного приказа.
– Ну и что ты там про вчерашнего мужика выяснил? – спрашивал его государь.
– Номер этот, Ваше Величество, зарегистрирован на одну коньковскую вдову…
– Ты же про эту вдову уже вчера мне докладывал, – прервал его государь, – в санях-то мужик был.
– Так и есть, Ваше Величество! Мужик-съ! Это сын ейный, Емелька, шестнадцати годов. Ездит по доверенности, заверенной зюзинским волостным нотариусом.
– И что ж ты намерен предпринять?
– Вышлем ему по почте уведомление о штрафе, – отрапортовал глава приказа.
– И всё? – изумился государь.
– А на остальное мы не имеем полномочий, – развёл руками глава приказа.
Услышав это, Василий снова потянул за шнурок, и в кабинет снова ввалился адъютант Петька.
– Вот что, Петруха, – обратился к нему царь, – бери с собой взвод рейтар, а ещё лучше эскадрон и давай двигай в Коньково. Найдёшь там Емельку, Романова сына, и доставишь его во дворец вместе с евойным транспортным средством.
* * *
Риттмейстер третьего эскадрона четвёртого рейтарского полка барон фон Киндергартен был родом из маркграфства Баум-Дуршлаг. Отец его в чине фельдмаршала командовал некогда всей баум-дуршлагской армией, сумевшей в долгих и кровопролитных войнах присоединить к любимой стране три села и два хутора. Однако после смерти последнего маркграфа, пережившего на престоле и сыновей, и внуков, страна перешла по наследству к другому маркграфству, и молодой барон был вынужден заново начать военную карьеру в далёкой холодной стране, рассказы о существовании которой до этого он принимал за сказки.
Сначала барон был оскорблён тем, что ему, сыну фельдмаршала, предложили командовать всего лишь эскадроном, но узнав, что численность этого эскадрона превышает численность армии, которой некогда командовал его папаша, непомерно возгордился и стал вести себя не как простой капитан, а как настоящий фельдмаршал. Он даже заказал изготовить для себя капитанский жезл наподобие маршальского, а командирам взводов велел понашивáть на штаны генеральские лампасы. Солдаты в его эскадроне называли офицеров не благородиями, а превосходительствами, а сам Киндергартен стал именоваться Его Высокопревосходительство Хер Хауптманн.
Расшаркавшись перед Его Высокопревосходительством, Петька изложил ротмистру царское повеление, и после недолгих сборов эскадрон, вышел из Калужских ворот и помчался на юго-восток по Старой Калужской дороге, поднимая из-под копыт снежную пыль.
* * *
Тем временем, к Емелиному дому, ощетинившись факелами, приближалась торжественная процессия. Нарядившись в праздничные одежды, селяне с образами и хоругвями шли поджигать Емелино жилище. Духовой оркестр местной пожарной команды, также привлечённой к поджогу, играл «Прощанье славянки». Во главе процессии шёл председатель, ведя за собой за крест упирающегося Отца Герасима. Сзади священника энергично подталкивал прикладом Манлихера обер-полицай Фома.
Когда Емелин двор наполнился толпой односельчан, председатель грозно скомандовал:
– Благослови, Отче!
– Не могу я на такое благословить, – заупрямился иерей, – не по-божески это и не по-людски даже.
– Ты же сам, каналья бородатая, говаривал давеча, что своей бесовской ездой он нам неурожаи накликает, и что по его вине мы план пятилетки не выполним.
– К покаянию призвать или там епитимью наложить, это ещё куда не шло, – отнекивался отец Герасим, – но человека сжигать… Мы ж не католики! Мы же русские люди!
– Благослови, батюшка! – просящим тоном обратился к нему Фома и, вынув из кобуры старинный Парабеллум, приставил его к седеющему на глазах виску отца Герасима.
В этот самый момент сзади послышался чей-то грозный окрик:
– Что за самоуправство? – кричал примчавшийся из волостного центра Ерёма, сверкая свежей лычкой на обер-полицайских погонах. – Немедленно прекратить!
– А кто ты такой, чтобы приказывать? – возмущённо ответил Фома. – И по какому праву лычку на погон нацепил?
– Кончилось твоё обер-полицайство! – объявил Ерёма. – Теперь обер-полицай – я, а ты отправляйся на пенсию на станцию Суходрев под Калугой!
Сказав это, Ерёма вынул из-под лисапедного седла гербовую бумагу с печатью и замахал ею у себя над головой.
– Ну, раз ты теперь главный, ты и командуй, – обиделся Фома и, бросив Парабеллум на снег, пошёл прочь, злобно расталкивая локтями праздничную толпу.
– Слушай мою команду! – прокричал обер-полицай Еремей, встав во весь рост на педалях с трудом балансирующего лисапеда. – Емелин дом поджи-и-и…Гай!
* * *
В этот самый момент послышался грозный топот копыт. Рассекая толпу, к месту действия приближался третий эскадрон четвёртого рейтарского Её Царского Высочества царевны Евдокии Васильевны именного полка.
– Кте преттсетать? – произнёс барон фон Киндергартен, обращаясь к толпе.
– Преттсетталеь фот он, – услужливо произнёс Ерёма, подобострастно стараясь копировать немецкий акцент, беря при этом за каракулевый воротник председателя, попытавшегося было раствориться в толпе.
– Кте прошиффает мушик Емеля сын Романофф?
– Вон в той самой хате, – залепетал председатель, показывая пальцем через плечо, – Это самый опасный элемент во всей волости. На субботники не ходит, партсобрания игнорирует, а в понедельник треснул коромыслом мне вот сюда. Вот, до сих пор синяк.
Сказав это, председатель спустил штаны и продемонстрировал барону синяк, поставленный по его словам тем самым Емелей.
– Тфой зайдниц нас не интересофайт! – ответил барон. – Фот поффестка яфиться к тсарь-патюшка. Пойти и перетать её Емеле!
– Ага, как же, пойти… – запротестовал председатель. – Сам к его хате подходить не буду. Вдруг он с меня опять коромыслом огреет или вообще с чердака гранату швыранёт. Вон пусть Ерёма идёт. Это его обер-полицаем назначили, и повестки вручать это его компетенция.
– Это мы рады стараться, – подтвердил обер-полицай Еремей и, выхватив повестку из рук ротмистра, побежал к Емелиному дому.
– А когда же будет дозволено с Емелей расправиться? – Задал вопрос председатель.
– Емеля отныне мужик государственный, – вступил в разговор адъютант Петька. – Трогать его таперича строго запрещается.
– А мать его можно? – с надеждой в голосе переспросил председатель – у нас имеются подозрения, что ведьма она. Она, говорят, щукой оборачивается, из проруби честных людей за руки кусает, да бранными словами поносит. Люди уже за водой на реку ходить перестали.
– Мать его теперь тоже нельзя, и всех его родственников тоже мать запрещается, – ответил Петька, и, подумав, добавил: – Впредь до особого распоряжения.
– Ну вот, весь праздник испортили, – с досадой проговорил председатель.
– А давайте тогда Ироду кабак разгромим! – предложил кто-то из толпы.
– Давно пора! – подхватил другой голос – Он наших мужиков нарочно ацетоном спаивает.
Пожарный оркестр заиграл «Семь-сорок» и толпа, развернувшись, пошла в сторону кабака Ирода Иудовича.
* * *
– Стой! Хто идёть? – послышался из-за дверей голос Емелиной матери, и перед Ерёминым лицом возник ствол берданки, просунутый сквозь необычайно широкий дверной глазок.
– Это я, почтальон… то есть, обер-пачтальон, то есть, тьфу… обер-полицай Еремей, это, как его, Матвеевич.
– Стой, стрелять буду! – проговорил материн голос из-за двери.
– Да погоди ты, Макаровна! Я с миром пришёл, а мир уже ушёл – пошли Иудычу кабак поджигать.
– А от нас чего надобно? – недоверчиво произнесла Макаровна.
– Повестку дня вручить велено, – ответил обер-полицай и, развернув листок начал читать её содержание: «Без-про-мед-ле-ни-я-я-вить-ся-по-ад-ре-су-мос-ква-кремль-те-рем-ной-дво-рец».
– А транспорт ему предоставите? – переспросила мамаша.
– Никак нет, велено добираться на его самоходных санях, чтобы лично Государю их продемонстрировать.
– В открытых санях я его в такую даль не отпущу, – отрезала мать. – Он у меня человек болезненный, ревматический. Ему доктора велели ноги в тепле держать.
– А в закрытых мужикам разъезжать не положено – пояснил Ерёма, – только столбовым дворянам и купцам первой гильдии.
– А тогда я на печке поеду! – высунулся из чердачного окна Емеля, всё ещё продолжая сжимать в руке осколочную гранату, использовавшуюся в хозяйстве для мятья варёной картошки.
– Разрешения ездить на печках по дорогам общего пользования из дэ-тэ-пэ не поступало, – с сомнением в голосе проговорил Еремей.
– Но и запрещения тоже не приходило, – парировал Емеля.
Сказав это, Емеля исчез из окна, а через несколько секунд внутри избы что-то зашипело, и фасадная стена дома плавно опустилась на землю, едва не придавив обер-полицая. По опустившейся аппарели из хаты выкатилась большая деревенская печь, из-под днища которой, шипя и присвистывая, вырывался густой водяной пар. На печной лежанке, укрыв ноги одеялом, сидел сам Емеля, управлявший печкой при помощи тракторных рычагов. Расплавляя под собой снег, печка, вися в десяти вершках от земли, двинулась в сторону Профсоюзной дороги. Рейтарский эскадрон последовал за ней, но вскоре стал отставать.
* * *
Тем временем из Москвы обратно в занятый поляками Киев в списанных санях, подаренных ему Василием, возвращался королевич Владислав. Впереди его саней, освещая дорогу мигалками, ехали сани с надписью «ДТП» – аббревиатурой дорожно-транспортного приказа, а сзади понуро плёлся польский конвой, прибывший в Москву вместе с королевичем.
Хотя подмосковные приключения принца, попавшего под безлошадные сани, вызвали у придворных неудержимый хохот, а поведение пьяного принца, помочившегося в кипящий самовар, ещё больше всех позабавило, рассмешить царевну всем этим так и не удалось. Поэтому, получив отказ, принц был вынужден возвращаться обратно.
Встречные и поперечные, завидев мигалку, спешили уступить кортежу дорогу, но Емеля, знавший ПДД лишь в объёме начальной школы, проигнорировал световые сигналы и на том же самом перекрёстке, только едя с другой стороны, врезался в принцевские сани, разнеся их в щепки. Напуганные видом и шумом самоходной печи польские лошади в панике разбежались, унося на себе всадников в разные стороны, а принц и ехавший с ним в обнимку его любимый капрал вновь оказались в придорожном сугробе, насыпанном снегоуборочной машиной.
В этот момент мимо принца с капралом на полном скаку промчалась лихая рейтарская сотня, не оказав принцу никакой помощи, и капрал, выплюнув два зуба на дорогу, нецензурно выругался и решил во что бы то ни стало отомстить русским за такое отношение к августейшим особам.
* * *
В ту минуту, когда, проехав Живодёрную слободу и снеся на въезде в город полосатый шлагбаум, Емеля, не обращая внимания на свистки городовых, мчался по Якиманке через Бабий городок, наш государь вышел из терема и направился к церкви Константина и Елены, стоявшей тогда у Тимофеевских ворот. Следом за ним, понурив голову, вяло плелась царевна.
Внезапно из-за ворот царь услышал свист и шипение, и вскоре в воротном проёме появилась деревенская печь.
– Как ты посмел в Кремле на печке ездить? – закричал государь на незнакомца. – Тем более ещё и без колёс. Эдак ты мне тут всю плитку тротуарную изнахратишь, а она у меня антикварная – с собяниских времён тут лежит!
– Помилуй, царь-батюшака, — ответил Емеля, – печка моя дорог вообще не касается. Она сама себе экранный эффект создаёт, и над дорогой парит.
– А зачем вообще в Кремль заехал? Что, другой дороги выбрать не мог? Вон, весной на Моховой развязку построили, да и Варварку тоже расширили. А вы всё норовите напрямик через Кремль ездить. Вот распоряжусь шлагбаум поставить или вообще ворота закрыть.
– Так ты же сам своим рейтарам велел меня в Кремль доставить. Вот я сам и доставился.
– Так ты и есть Емелька, сын Романов? – удивлённо проговорил государь. – А где ж твои самоходные сани?
– Так на них зимой ездить холодно, расход самогона большой, да и двигатель перегревается – пять вёрст проедешь – десять вёрст стоишь, охлаждаешься.
Последнее Емелино словосочетание могло бы убить наповал любого меланхолика. Не выдержала его убойной силы и наша царевна. Её так прорвало, что стёкла теремного дворца едва не полопались от её неудержимого истеричного хохота.
Царь переменился в лице, влез на печку и стал целовать Емелю и называть его словом «сынок».
– Сегодня же познакомишь меня со своей матерью, – огорошил царь недоумевающего Емелю, – а завтра устроим свадьбу: у меня в ЗАГСе Центрального округа блат имеется – вас без очереди распишут.
– А с чего вдруг свадьба-то? – продолжал недоумевать Емеля. – Я ведь не принц никакой, а просто мужицкого сословия.
– А ты что, не слышал моего указа? По радио третьего дня на всю Россию указ протранслировали.
Так у нас радио не работает. Антенну в декабре ветром сдуло, а громкоговоритель ещё летом сломался, председатель его никак не починит, бюджет, говорит, этого не предусматривает. А телеграф так и вовсе не работает. Депеши в Зюзино полицай Ерёма на лисапеде возит.
– Вот сейчас приедем к тебе, лично председателю разнос устрою. Как это бюджетом не предусмотрено? На этот финансовый год ему столько средств выделили…
– А он небось на эти средства карету агрономше купил, – высказал Емеля осторожное предположение.
– Вот я ему покажу такую карету! – разозлился царь и тут же велел конвою и свите собираться в дорогу.
Уже через час из кремлёвских ворот выехала странная процессия. Царь, царевна и Емеля ехали впереди на печи, а следом, пытаясь их догнать, мчались царский конвой и многочисленные придворные. Чем это всё закончилось, я теперь смутно помню, поскольку происходило это всё в Смутное время, но говорят, отец Герасим порвал на Емелиной свадьбе свой лучший баян.