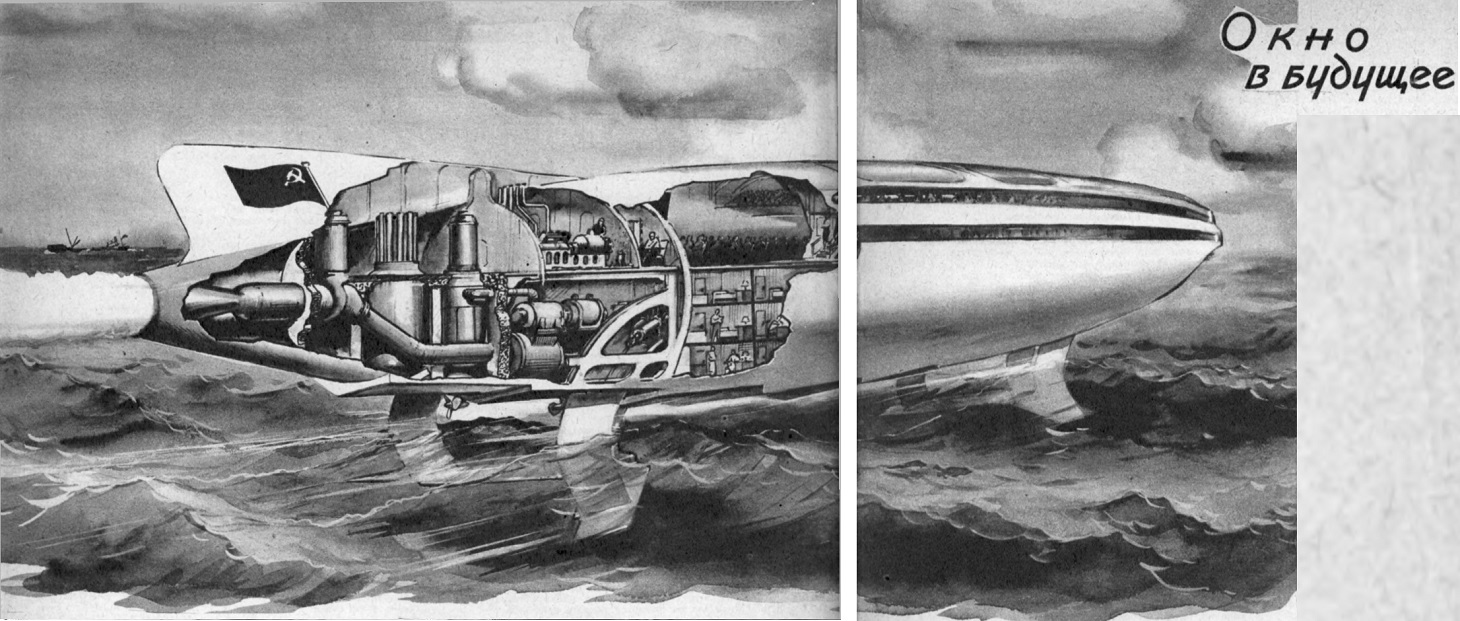Как оно было на самом деле. После дела
Замечательный рассказ харьковского автора Олега Пелипейченко.
— Боги не умирают, Уотсон, — рассеянно заметил Холмс после того, когда я зачитал ему знаменитое скандальное изречение Ницше.
Как правило, самых удивительных откровений от моего друга можно было ожидать именно в такое время — в минуты наибольшей усталости, перед самым отходом ко сну, особенно после бокала-другого его любимого бургундского «Монраше». Многие из его признаний были настолько ошеломляющими, что я так и не рискнул познакомить с ними читателей, памятуя о судьбе одного излишне самоуверенного саксонского барона.
Я оторвал взгляд от строчек «Весёлой науки» и озадаченно воззрился на него.
— Что вы имеете в виду?
Вместо ответа Холмс несколько раз моргнул, отложил трубку в сторону и задумчиво потёр ладонью лоб.
— Давно хотел поделиться с вами кое-какими размышлениями на эту тему, — негромко начал он, — да всё как-то не выдавалось случая. Итак, один из моих приятелей по колледжу, большой фантазёр, как-то забавы ради придумал чрезвычайно медленное существо, которое передвигается очень интересным способом: спереди растут новые клетки, а с задней стороны отмирают старые. Примерно то же происходит и с памятью разумных существ…
— Вы хотели сказать — людей? — с легким недоумением уточнил я.
Холмс поднял на меня чуть помутневшие глаза и после непродолжительного молчания отозвался:
— Ну а кого же ещё… Конечно, людей. Куда уж другим-то, если и насчёт этих иной раз сомневаешься…
— Я не совсем понимаю вас, Шерлок.
Очевидно, мой взгляд сказал ему многое, потому что мой друг криво улыбнулся, потрепал меня по руке и со вздохом откинулся на спинку кресла.
— Прошу прощения, это вино делает меня косноязычным и вносит сумбур в мысли. Хорошо, зайдём с другой стороны. Насколько я помню, вы не очень-то в ладах с античной мифологией.
Я слегка растерялся.
— Ну, это смотря как мерить… Если в сравнении с китайской, то я в ней просто профессор.
— Ах, оставьте, Джон. Я не собираюсь вас экзаменовать. Просто мысли, на которые вы меня невольно навели, требуют некоего предварительного пояснения.
Ладно, оставим покамест греков и римлян в покое. С воображением, как мне помнится из истории с собакой Баскервилей, у вас уж точно всё в порядке.
Я смутился, в то же время чувствуя себя польщённым: в устах ироничного Холмса даже такая характеристика звучала комплиментом.
— Предлагаю тогда пофантазировать и заодно кое-что проанализировать, — начал Холмс, — благо обстановка располагает и желание есть. А давайте-ка мы с вами для начала представим себе бога. Ох, да ладно вам, Уотсон, не смотрите так, ничего в этом кощунственного нет! Два божьих создания просто беседуют и думают о божественном — что в этом дурного? Давайте я вам лучше ещё налью, а то бутылка как-то слишком тяжела… Итак, чем бог должен отличаться от других существ? Понятное дело, намного большими возможностями в каком-либо отношении: в тысячи раз большей мощью, намного более могучим разумом, способностью совершать действия, выходящие за рамки современных научных представлений, и так далее, что в сумме нам даёт максимальные способности к выживанию. То есть убить его весьма и весьма сложно, буде таковая мысль придёт кому-нибудь в голову. Впрочем, древние свидетельствуют, что кое-кому это вполне удавалось, то есть бог в принципе может погибнуть, но нас сейчас интересует иное — может ли он умереть? Если учесть то, что всякое живое существо по определению стремится остаться таковым и принимает для этого все меры, то можно заключить, что богу, начиная с определённого уровня его могущества, отпущен неопределенно долгий срок жизни.
— То есть он не может умереть? — поинтересовался я.
Холмс скривился и посмотрел на огонь через вино в бокале.
— Ну вот, опять забыл прежде всего уточнить терминологию, — с досадой отметил он. — Что такое, по-вашему, умереть?
— Как, а разве могут быть разные точки зрения на этот счёт? — поразился я.
— И всё-таки?..
— Ну… Прекратить своё земное существование. Стать прахом с прекращением жизненных функций.
— Ещё?
— Расстаться с душой, наконец… Да что конкретно вы хотите от меня услышать? — начал сердиться я.
— Ну вот, уже ближе, — удовлетворённо кивнул Холмс. — Для разумного существа смерть означает прежде всего потерю личности. Того запаса знаний, чувств и навыков, который и даёт право считаться обладателем разума. Согласны?
Я попытался обдумать эту, без сомнения, глубокую мысль, но не особо преуспел в этом занятии. Противостоять вину — это почти то же, что противостоять в споре Холмсу: рано или поздно все равно придётся полностью капитулировать. По некотором размышлении я решил сберечь силы и время и молча кивнул в ответ.
— В юном возрасте любой ребёнок обладает весьма цепкой памятью, — продолжал Холмс. — Если он что-то и забывает, то совсем уж неинтересные вещи, а в том возрасте, когда познаёшь мир, интересно практически всё. Ребёнок берёт новые знания и, словно кирпичики, укладывает их в свою картину бытия, тем самым готовя основу для дальнейшего существования. Таким образом, его личность растёт в будущее довольно резво, оставаясь со стороны прошлого устойчивой и прочной. Возвращаясь к теоретическому образцу моего приятеля: с годами память начинает слабеть, задние кирпичики этого мысленного сооружения трескаются, рассыпаются песком, невидимый великан шагает всё быстрее по некогда крепким опорным башням воспоминаний, обращая их в пыль, и если последняя из них падёт раньше, чем сердце перестанет гонять кровь по сосудам, то к подобной личности, окончательно превратившейся в руины, несколько неправомерно будет применить понятие «живой».
По мере того, как Холмс говорил, я всё более ярко представлял себе эту ужасную картину. Когда он прервал свою речь, чтобы поворошить дрова в камине, я вылил в бокал остатки вина из бутылки, сделал большой глоток и крепко зажмурился.
— А вот у тех существ, в жилах которых течёт ихор — напоминаю, мой друг, что это кровь античных богов, — и даже у тех существ, чей ихор разбавлен кровью, с устойчивостью к губительному воздействию времени дело обстоит гораздо лучше. Мне иной раз представляется, что божественная сущность — это та, которая способна бесконечно растянуть собственную картину мира в обе стороны — и в прошлое, и в будущее. Говоря попросту, бессмертные боги — это те, кто всё познаёт и ничего не забывает. А теперь делаем несложное умозаключение и приходим к выводу… К какому, кстати? — внезапно перебил себя Холмс.
— К какому? — тупо повторил я.
— По-моему, это эле… Ох, простите, Уотсон, я помню, помню, что обещал, не буду больше, случайно вырвалось. Так вот, из этого следует, что тот, кто ничего не забывает, — бог. Как сказал бы незабвенный профессор Мориарти, закон симметричности в действии.
Я помотал головой.
— Как-то это всё сложно… И неоднозначно. Если так рассуждать, то в вас, Холмс, тоже присутствует божественное начало: не могу припомнить, чтобы вы хоть раз что-то забыли.
Это слова неожиданно оказали странное воздействие на моего друга: он словно окаменел, в лице появилась непонятная отрешённость. Мне вдруг стало страшно; несмотря на довольно-таки тёплый вечер и ярко пылающий камин, я ощутил, как по хребту пробежал озноб. В волнении я поспешно откупорил бутылку «Мерсо», налил половину бокала, вложил ему в руку и буквально заставил сделать глоток.
— Давайте все-таки продолжим теоретизировать, — произнёс через некоторое время Холмс хриплым голосом, когда бокал опустел. — Как, по-вашему, будет проводить время бессмертное существо, когда уйдёт его эпоха, как это произошло, к примеру, с теми же олимпийскими богами?
Я честно постарался сосредоточиться на поставленной задаче.
— Думаю, оно в любом случае будет стараться вести привычный для себя образ жизни, — наконец ответил я после долгого обдумывания. — Привычка — это такая штука, которая сама по себе во многом определяет личность.
— Блестяще! — Холмс несколько раз хлопнул в ладоши, отставил бокал в сторону и начал набивать трубку. — С первого раза попали в самую точку. Именно так. Того же Ареса, к примеру, с наибольшей вероятностью сыщешь в чьём-нибудь генеральном штабе; Дионис, насколько я могу судить по вкусу этого «Мерсо», уже прибрал к рукам крупнейшие винные дома Франции…
— Погодите, Холмс, — воскликнул я, понемногу трезвея от страха, — а откуда вам известен вкус вин Диониса? Это такая мистификация?
Холмс шумно выдохнул, покачал головой и вяло пожал плечами:
— Обычная оговорка. Я имел в виду… имел в виду, что есть в этом вкусе что-то греческое… неуловимое такое… Ах, да оставьте, Уотсон, что вы к словам придираетесь? Мы сейчас о другом говорим. Да, а тот же Зевс непременно должен будет оказаться на троне. Собственно, тезис о божественности власти не на пустом месте возник. Можно сколько угодно раз говорить о самовнушении, об эффекте толпы, об излишне экзальтированном восприятии лидера народом, но в определённые моменты божественная суть проступает сквозь любые маски, преодолевает любые заслоны — и тогда не остаётся сомнений в том, что перед нами больше чем человек.
— То есть вы хотите сказать, что все монархи…
— Ну почему же все? Некоторые люди в отношении харизмы сто очков вперед любому богу дадут.
— Холмс, мы до сих пор фантазируем? — спросил я напряжённым голосом.
Холмс встрепенулся.
— А разве вы всё это восприняли всерьёз? — несколько наигранно, как мне показалось, осведомился он. — Я ведь с самого начала предупредил, что это всего лишь отвлечённое логическое построение. Тот же Зевс, помню…
— Вы сказали «помню», Шерлок? — перебил я Холмса, глядя на него в упор.
Никогда ещё я не чувствовал себя таким трезвым, как сейчас. И ещё никогда мне не было так тревожно.
Холмс внимательно рассматривал меня несколько мгновений, затем провёл рукой по лицу — и все следы опьянения сошли с него, как пыль при омовении. После этого мой друг печально улыбнулся и поднял ладони, словно сдаваясь на милость победителя.
— Дорогой мой Уотсон, я так и знал, что когда-нибудь вырою яму самому себе. Всё-таки крепость нынешних напитков играет со мной злую шутку, а разбавлять сейчас не принято. Надо будет как-нибудь решиться и всё-таки подправить метаболизм — правда, изучение физиологии мне всегда претило… Ну да ладно.
— Кто вы, Холмс? — спросил я напрямик.
В глазах моего собеседника мелькнула улыбка.
— А вы сами не хотите воспользоваться дедукцией? — поинтересовался он. — Попробуйте для начала определить хотя бы, кто такой Вильгельм фон Ормштейн.
Я похолодел.
— Да не может быть…
— Может, — возразил Холмс с грустной улыбкой.
— То есть король Богемии?..
— Да. Он и есть. По-моему, это очевидно: Зевс всегда любил помпезно одеваться. И не представлял себе жизни без женской любви. Сколько бы он ни заблуждался в отношении своих пассий, как бы ни обжигался на этом огне — всё равно так ничего и не вынес из своих ошибок. Даже мне его иной раз было жаль…
— Даже вам?!.. Холмс, но…
— Что бы ни рассказывали о нем, — с нажимом продолжал Холмс, словно ничего не слыша, — человеческие женщины его интересовали не более бабочек-однодневок: сегодня она есть, завтра — нету, но уже десяток других порхает вокруг, лови любую. Взять ту же ложь об Алкмене: если он настолько впечатлился этой дородной мастерицей любовных дел, непонятно откуда набравшейся своих умений, — кто ему мешал подкатываться к ней под бок хоть каждую ночь, пока муж мечом где-то машет? Нет же: добился своего, понял, что окончательно разочаровался в смертных, наскоро сочинил благовидный предлог — и вернулся к своим прежним увлечениям. И неудивительно: помимо того, что ихор избавляет от старения — а значит, разборчивому богу не придется разочарованно наблюдать, как вянет день ото дня любимое тело, — так он еще и наделяет своих носителей невиданными возможностями. И чуть ли не самая обыденная из них — способность оборачиваться. Такие оборотни, как нимфы, к примеру…
— Нимфы?!.. — не смог сдержаться я.
— Ну да, а почему для них должно делаться исключение? Как бы это ни ранило вашу романтичную душу, прекрасные девы — оборотни в не меньшей степени, чем те же волкодлаки. Только более изысканные и, пожалуй, менее смертоносные — хотя, наверное, и не все. Господи, Уотсон, ну почему именно это невинное известие вас так шокировало? Вы же знакомились с античными мифами, как и любой образованный человек, хотя бы поверхностно. Да все лесные и горные жители были оборотнями; взять того же Актеона, который зря пытался убежать от Артемиды на четырёх ногах, думая, что это превращение хоть что-то изменит… Дриада Дафна, как вам, безусловно, известно, обращалась в лавр, наяда Сиринга — в тростник, Геспериды — в тополь, иву и вяз. Киана, Пирена и Аретуса растекались водными источниками, Эхо вообще избрала для себя нематериальный облик. Да и другие…
Мой собеседник запнулся на полуслове и замолчал.
Боясь нарушить воцарившуюся тишину, я вертел в пальцах бокал и исподлобья разглядывал того, кого знал много лет как Шерлока Холмса — одного из самых необычных людей в мире: бесстрашного детектива, оригинального мыслителя, поборника справедливости, всегдашнего аскета и своего верного друга. Отблески каминного пламени плясали на его лице вперемежку с тенями, под глазами залегли тёмные круги; морщины, словно нанесенные кистью безымянного готического художника, вдруг состарили его на много столетий. Сейчас он и вправду казался выходцем из древних эпох.
— Её подруга Канента оборачивалась лебедем, — внезапно проговорил Холмс вполголоса, — и лишь ей самой был дозволен облик орла — любимый образ её хозяина.
— Кому — ей? — спросил я, уже зная ответ наперёд.
— Эйрене, — безучастно ответил Холмс. — Этой жен… этой нимфе. Ореаде. Самому прекрасному созданию на свете. Его любимице и любовнице. Той единственной, которую он взял с собой, идя сквозь века. Уотсон, вы знаете, как будет «орёл» на языке фон Ормштейнов?
— Знаю, — глухо отозвался я. — «Адлер». Этого следовало ожидать. И теперь, мне кажется, я знаю, с кем говорю.
— Я в этом и не сомневался.
Тот, кто называл себя Холмсом, положил ладонь на край подлокотника и в задумчивости сжал пальцы. Дерево хрустнуло. Мой собеседник с легким недоумением повертел в руке деревянный завиток и со вздохом бросил его в камин. Набив трубку, он неторопливо раскурил её и откинулся на спинку кресла.
— Там, на Кавказе, мы хорошо узнали друг друга, — продолжил он. — Разумеется, никакого ущерба моей печени наносить никто не собирался — ни Эйрена, ни Зевс: ну разве что при помощи неразбавленного вина — братец хорошо знал мою слабость. Каждый раз она приносила в клюве корзину с маленькими амфорами и разными лакомствами; я накрывал стол… Какие там цепи, какие оковы, о чём вы, Уотсон? Зевс просто позволил мне отсидеться в горах, пока отголоски всей этой истории не поутихнут, и я благодарен ему за такую возможность… Да, я накрывал стол, и мы подолгу общались. Я рассказывал ей истории из времён юности Геи, она делилась мыслями по поводу услышанного, мы спорили до хрипоты — к огромному обоюдному удовольствию. Иногда она пела для меня — вы не представляете, друг мой, какой у неё голос… Впрочем, у вас… у нас была возможность её услышать, она в прошлом году дала пару концертов в Лондоне. Но я не хотел мучить себя столь изощрённым образом, Джон; думаю, вы меня поймёте.
Сначала каждого из нас интересовала личность собеседника, однако со временем наши отношения переросло в нечто большее. Собственно, вы уже составили себе представление о незаурядности этой женщины, причём всего лишь о ее ипостаси Ирэн — и даже это слабое отражение оригинала оказало на вас неизгладимое впечатление, насколько я заметил. Мы влюблялись друг в друга всё сильнее и сильнее, и неизвестно, к чему бы это привело, но в один из дней перед самым её прилётом на тропинке, ведущей к моей пещере, появился Геракл — как всегда, жаждущий восстановить справедливость.
Прометей отставил бокал, опустил голову и прикрыл глаза.
— Когда этот бугрящийся мышцами идиот пробил её насквозь стрелой в полёте, я чуть не убил его на месте, — продолжил он усталым голосом. — Его спасло лишь неведение — понятно, что намерения у него были самыми лучшими, но… Я схватил Эйрену и перенёсся к Зевсу: время шло уже на минуты, а мне никаких идей насчёт её спасения в голову не приходило. И тут я впервые осознал, почему именно этот сын Крона занял трон Олимпа: ни мгновения не тратя на слова, не сходя с места, Зевс своими перунами прошил насквозь гору, пробил огромную дыру в куполе царства Аида и выхватил из круговерти ринувшихся в неё душ одну-единственную — душу Асклепия.
Каким образом он потом мирился с братом, как обихаживал рассвирепевших мойр, как добился одобрения высших сил на обожествление великого врачевателя в благодарность за исцеление Эйрены — обо всём этом я понятия не имею. Но именно тогда я понял, за что его так любят все представительницы прекрасного пола. И ещё понял, что Эйрена отныне для меня потеряна, — когда увидел, какими глазами она на него смотрела, придя в себя после лечения…
Впоследствии я прилагал все силы для того, чтобы не упускать Эйрену из виду. Несколько раз я пробовал побеседовать с ней, но у неё тут же находились неотложные дела. В конце концов она начала сторониться меня, и я прекратил эти бесплодные попытки.
Дрова в камине потрескивали еле слышно, словно опасаясь нарушить нежданную исповедь древнего титана; огонь, прирученная им когда-то стихия, слушал её вместе со мной, и лишь изредка похрустывал тонкими прутьями.
— А впрочем, Уотсон, сильнее всех, как всегда, оказалось время, — преувеличенно бодрым голосом произнёс Прометей и потянулся через подлокотник за бутылкой виски. — Нет ничего утомительнее вечности. Все мы со временем меняемся, и ни одна часть души разумного существа не в силах вынести этого испытания.
Лишённый привычной среды после упадка Эллады, Зевс огрубел, замкнулся в себе; и раньше не отличавшийся терпением, он начал срываться на всех окружающих, особенно на самых близких. Бедная девушка долго, очень долго терпела, но любовь постепенно сменилась привычкой, а та, в свою очередь, душевной неудовлетворенностью. Эйрена, свободолюбивая, как и всякая нимфа, тосковала, но ничего не могла сделать: бог ни за что не отказался бы от своей последней жрицы.
Всё изменил случай. Однажды Зевс со своей немногочисленной свитой, путешествуя по Тюрингии, остановился в столице карликового герцогства Заксен-Майнинген. Каково же было его удивление, когда в одноглазом герцоге он узнал Одина — давнего врага, приятеля и соперника в борьбе за человеческие умы! Тот посчитал неожиданную встречу счастливым предзнаменованием и предложил объединиться, мотивировав это тем, что совместный культ, как и всё новое со старой базой, будет более успешен, нежели каждая из его составляющих. Для закрепления союза германец предложил Зевсу, женолюбие которого с веками никак не пострадало, одну из своих валькирий, Клотильду. Неожиданно для себя Зевс увлёкся до беспамятства этой дебелой девицей. К слову, я видел её, Уотсон: она поразительно напоминает молодую Алкмену.
И тут Эйрена поняла — вот он, её шанс! Великий Один, весьма заносчивый и мстительный тип, посчитал бы за смертельную обиду подобную вековую связь своего зятя с какой-то безродной выскочкой. Улучив момент, девушка взяла из секретера некоторые документы… ну а дальше вы и сами знаете.
Зевс, понятное дело, был в ярости. Фрейр (в миру, кстати барон Фалькенер), давно симпатизировавший мне за небольшую ежемесячную сумму, тут же замолвил за меня словечко перед августейшим лицом, в самых ярких красках расписав мои дедуктивные способности. А вы, наверное, думали, что правитель далёкой Богемии случайно выбрал какого-то странного частного детектива-иностранца, персонажа множества басней, ходящих среди аристократического бомонда? Нет, мой друг, если уж мимо пробегает удобный случай, надо бежать с ним плечом к плечу и выжидать момента для подножки. Иначе потом не догонишь.
— Послушайте, э-э…
Холмс повернулся так резко, что часть виски выплеснулась на ковёр.
— Милый мой Уотсон, — веско проговорил он, — я буду перед вами в вечном долгу, если и в дальнейшем останусь для вас Шерлоком Холмсом. Я не притворялся перед вами; всё то, что вы обо мне знаете, включая любые привычки и особенности, — чистая правда.
Я молча склонил голову, чувствуя, как напряжение, сжавшее внутренности холодным кулаком, понемногу отпускает.
— Послушайте, Холмс, но как же так получилось, что Зевс вас не узнал при встрече?
— Э, друг мой, меня не узнала даже Эйрена… Вы забываете, что в моих жилах тоже течёт ихор. Эту свою внешность я шлифовал десятилетиями и в конце концов сросся с ним настолько, что сам привык. Думаю, вы не настолько любопытны, чтобы просить меня показаться в истинном облике, да и ничего примечательного в нём нет.
— И не думал просить, — кивнул я. — Не представляю вас иным и не хочу представлять.
Холмс опустил веки и благодарно кивнул.
— И всё же есть в этой истории какая-то незавершённость, — задумчиво сказал я, подбрасывая в камин поленце и вороша угли кочергой. — Неужели молодожёнам так и придётся целую вечность прятаться по закоулкам цивилизации? Ведь Зевс так и не отказался от неё. Может ли так статься, что впоследствии он заявит свои права?
— Ну, не всё так трагично. — Холмс улыбнулся краешком рта, плотно закрыл бутылку и поставил её на столик. — Дорогой мой Уотсон, а вы не обратили внимания на то, как звали жениха Эй… этой женщины?
— Увы, для меня это был слишком мимолётный эпизод, — развёл я руками.
— Годфри. Годфри Нортон.
— Нортон? Годфри… Год-фри? «Бог-освобождать»?!
Холмс кивнул с грустной усмешкой.
— Вы ещё вспомните завязку этой истории и насчёт фамилии подумайте. Мой кузен всегда отличался страстью к эффектам и символике. Впрочем, хорошо, когда подтверждение даётся настолько очевидным способом, можно не ломать голову над нюансами.
— И кто же этот Нортон? — жадно поинтересовался я. — Ещё один орёл с птични Зевса?
— Да нет, — пожал плечами Холмс. — Обычный человек, насколько мне известно. Зевс действительно освободил Эйрену, и она теперь проживёт обычную жизнь обычной женщины.
— И… умрёт когда-нибудь?
— Да. Таков его прощальный подарок. Она заслужила счастье любить на равных — хотя бы несколько оставшихся десятилетий.
— Но почему вы сами не пожелали возобновить отношения? — воскликнул я. — Вы же были так близки друг другу, она ведь тоже помнит всё, что между вами было, в ней тоже течёт ихор!
— А что я могу ей теперь предложить? — отрешённо проговорил Холмс, не отрывая немигающего взгляда от пламени в камине. — Такой же обломок ушедших эпох, как наш божественный монарх, давно разочаровавшийся во всём и не умеющий дарить простое ежедневное счастье, на которое так богаты обычные люди? То обстоятельство, что здание моей памяти никогда не обветшает, ничего не меняет. Я так думаю, Джон: если не можешь сделать счастливой — отпусти, не гневи мойр. А в моём существовании и без того есть много бесценного: мои друзья, мои уже раскрытые и ещё нераскрытые дела, мои мозги — и, конечно же, мой…
Оборвав себя на полуслове, он внезапно наклонился к камину и погрузил руку в огонь.
Языки пламени на мгновение сложились в голову саламандры; огненное животное нежно лизнуло ладонь моего друга раздвоенным языком и опять распалось на отдельные ленты и струи, радостно вспыхнув на прощанье.
* * *
Холмс удалился в свою комнату, а я долго ещё сидел, уставившись в камин.
Конечно, я помню длань Зевса, выхватывающую меня из Тартара. И — после полутора суток сложнейшей операции — его слова: «Вот дар тебе за твоё искусство. Но, сам понимаешь, если я когда-нибудь попрошу тебя присмотреть за моим безрассудным кузеном…»
Вот и присматриваем с провинившейся Гестией на пару. Надо бы, кстати, заплатить ей за месяц вперёд, а то стала экономить на угле и завтраках.