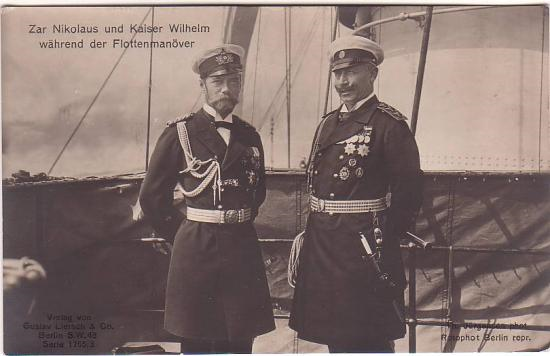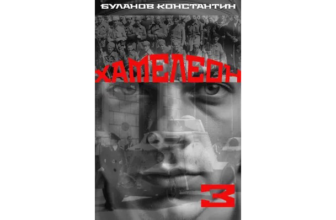1939 год в России, в которой Временное правительство стало Постоянным
16 ноября 1939 года было холодным и в первой, и во второй, и в третьей реальности – солнце оставалось солнцем, земля – землей, а мороз оставался морозом, не подчиняясь ни постановлениям ЦК ВКП(б) во главе со Сталиным, ни указам Высшего Государственного Военного Совета во главе с Корниловым, ни постановлениям президента Российской Республики восьмидесятилетнего Павла Николаевича Милюкова. Единственное, что отличало этот день во второй реальности от этого же дня в первой и третьей, так это то, что в России №2 этот день считался третьим числом, а в остальных двух реальностях – шестнадцатым. Все дело в том, что в Советской России Григорианский календарь был введен в восемнадцатом, а в России демократической – в двадцать четвертом – в тот же год, когда он был введен в Греции, в Болгарии и в Румынии, а также в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев. В третьей России этот день ознаменовался всего лишь забастовкой таксистов в Петрограде. В России диктаторской этот день запомнился неудачным покушением недобитых революционеров на московского градоначальника. В России же, называемой в то время Советским Союзом, в этот день решался вопрос, присоединиться ли к союзу Германии, Италии и Японии или продолжать дальше извлекать выгоды из положения третьей силы Второй Империалистической войны.
В затхлой купеческой Москве все было спокойно. Темный ноябрьский вечер плавно переходил в ночь, и многочисленные коммерсанты, которых после закончившейся двадцать один год назад Великой войны стали именовать «новыми русскими», спешили сегодня побыстрее прокутить дневную выручку, пока не съела ее завтрашняя девальвация.
Конторские служащие, напротив, спешили на Сухаревский рынок, чтобы успеть обменять на доллары полученное жалование, так как в понедельник, судя по слухам, предполагалось очередное падение курса рýси – национальной денежной единицы.
Выпустив шасси, ступа совершила посадку на Керенских горах. Так назывались теперь Воробьевы горы, переименованные в честь первого демократического президента России, убитого террористкой Фанни Каплан тридцатого августа восемнадцатого года. В тот день Александр Федорович во время своего приезда в Москву выступал с пламенной речью на заводе Михельсона. Когда речь его подошла к концу, к Керенскому, избранному Учредительным собранием президентом России лишь шестого июля, подошла Кастелянша Обуховской больницы гражданка Попова и задала Керенскому вопрос: «До каких пор ударные продбатальоны будут грабить мешочников?». Керенский успел лишь ответить, что своим недавним указом он отменил грабежи. В этот момент и раздались выстрелы. Пуля, попавшая в затылок, не оставила Керенскому шансов выжить.
– Раз демократия, значит, снег чистить не надо, – выругался Вольдемар, когда ступа увязла в снегу всеми тремя колесами.
Здесь с крутого берега Москвы Первопрестольная была как на ладони.
На переднем плане бросались в глаза земляные отвалы, оставшиеся после замораживания строительства московского метрополитена. Его начали строить еще почти десять лет назад, но подрядчик, проворовавшись, сбежал за границу, и акционеры потребовали у правительства возмещения убытков. Всё это время две строительные компании, одна немецкая, другая – американская, уже восемь лет оспаривали в судах различной инстанции вопрос о том, кому достанется подряд на продолжение строительства. Далее на северо-востоке маячил Кремль. Его легко было узнать по верхушке Спасской башни, отстреленной снарядом во время октябрьских боев семнадцатого года. В те дни во время неудавшейся попытки мятежа восставшие большевики обстреливали Кремль из тяжелых орудий, и лишь прибытие с фронта подкреплений спасло тогда юнкеров, героически его оборонявших. С тех пор городской бюджет никак не мог накопить средств ни на ремонт Спасской башни, в часах которой также зияла дыра от артиллерийского снаряда, ни на строительство памятника тем самым героям–юнкерам, которые защищали Кремль в октябре семнадцатого.
– Рановато прилетели, – констатировал Нелидов. – завтра с утра было бы в самый раз.
– Чтобы прибыть завтра с утра, нам завтра утром пришлось бы из восемьдесят третьего и отправиться, – пояснил Вольдемар, – А нам надо к вечеру клиента доставить. А то Ленке с Модей невтерпеж историю изменять, а чем все закончится, они и думать не желают.
– Да-с, авантюристы, – согласился Нелидов. – но где мы тогда будем ночевать? Сейчас минус двадцать, а к утру и все тридцать будут.
– Будем искать приличную гостиницу. Ты, Павел, помнится, в Москве служил, значит, все гостиницы знаешь.
– Это когда было-то? Тридцать лет назад. И то месяц лишь успел прослужить. Мне главное, наоборот, никого из сослуживцев не встретить. Стыдно все-таки. Скажут, сбежал из полка. Дядюшку жалко. Он год хлопотал, чтобы меня в Сумской перевели, и я ему такую свинью подставил.
– А ты что ж, обратно в девятый год вернуться не собираешься?
– Да что я там забыл? Я лучше в девятьсот восемьдесят третьем останусь. Представляешь, Вольдемар, барышни сами знакомятся прямо на улице. А вот еще мотоцикл куплю… Я тут одну сломанную «Яву» заприметил. Можно по дешевке взять. Егоры Исаевичи обещал помочь починить, или, как в том году говорят, отремонтировать. И тогда я, как там выражаются, любых бикс смогу снимать.
Говоря последнюю фразу, Нелидов выставил вперед обе руки с растопыренными пальцами, представляя, вероятно, как будет он ощупывать грудь очередной «снятой биксы».
– А деньги-то ты где будешь брать? – вернул его на землю Вольдемар.
– А я договорился уже. Берут меня в берейторы на ипподроме. Оклад двести рублей. Советских, конечно, но жить можно. Я им как прогарцевал всеми возможными аллюрами на необъезженной лошади, что они теперь меня, как сами они говорят, берут с руками и с ногами. Потом, обещают, что лет через пять бесплатную квартиру дадут, на всю жизнь.
– А паспорт-то где ты возьмешь? Паспорт с пропиской надо иметь, чтобы на службу поступить.
– Я тоже думал сперва, где взять, но я тут недавно в пивнушке с одним фертом познакомился, он мне и говорит: «Всё здесь решаемо. Только бабки плати». Это они деньги так называют. Да еще и помочь обещал. За бабки, конечно.
– Жулик твой ферт. А таких простофиль, как ты, в тех временах лохами называют.
— Ты думаешь?
— Не думаю, а уверен.
— Так, где мы все-таки ночевать-то будем? – обломанным голосом напомнил Нелидов. — Кое-что могу предложить. В Малом Колосовом переулке, на углу Цветного бульвара всегда были полтинные публичные дома последнего разбора. Наверняка они есть и сейчас. Только ни «лихач», ни тем более пароконный «голубчик» туда не поедет. Побоятся, что самих их «коты» обчистят, а лошадей завтра же на Хитровке продадут или вообще на колбасу пустят. Придется «ваньку» деревенского ловить. – Да есть у меня тут мыслишка одна, – нехотя ответил Вольдемар, – только надо проверить.
Вскоре Пчёлкин с Нелидовым дошли до Брянского вокзала. На трамвае тридцать первого маршрута через мост они доехали до Садового кольца, откуда, сев на громыхающий красный трамвай довоенной постройки, идущий по маршруту «Б».
— О, Вольдемар, смотри, Поварская, — показал Нелидов направо. – Там у церкви Симеона Столпника стоит пятая мужская гимназия, где я учился. А тут рядом был хороший трактир «Молдавия», — показал он налево, когда трамвайная линия пересекла Живодерку.
— А Триумфальные ворота почему-то здесь до сих пор стоят, — в свою очередь заметил Вольдемар, когда трамвай проехал Триумфальную площадь. Сад аквариум, такой же, как и был, да и церковь Святого Ермолая на месте.
— А почему, собственно, позвольте полюбопытствовать, она должна быть не на месте, — поинтересовался господин в широкополой американской шляпе, сидящий справа от Пчёлкина на длинной дощатой лавке, идущей вдоль всего трамвайного борта.
— Видите ли, милостивый государь, — отозвался Пчёлкин, — я так давно не был в Москве, что, право, удивлен тем, как хорошо она сохранилась.
— Это ваш Петроград все время перестраивают, — проговорил господин в шляпе, — а мы, москвитяне, город свой бережем, и никакими подземками изуродовать его не дадим.
Долго бы еще Пчёлкин спорил с этим господином о достоинствах и недостатках подземного пассажирского сообщения, но этот господин вышел у Сухаревой башни и скрылся в толчее не утихающего даже в вечерние часы рынка. Пчёлкин про себя тут же отметил, что Сухарева башня тоже была целой, как оказались целыми и Красные ворота.
Отсюда, от Красных ворот, Пчёлкин и Нелидов, сойдя с трамвая, пришли на Каланчевскую площадь.
Несмотря на лунную ночь, в каковую освещение московским улицам не полагалось, Каланчевка была освещена яркими электрическими огнями. Ярче всех светился циферблат часов на башне бывшего Николаевского вокзала, ныне переименованного в Петроградский. Лишь на противоположной стороне площади мрачнел неосвещенный силуэт длинного недостроенного здания. Это был Рязанский вокзал. Еще незадолго до войны было снесено его старое здание, и на его месте по проекту инженера Шухова начал строиться новый вокзал, который предполагалось назвать Казанским. Но сначала война замедлила строительство, а затем Февральская революция полностью его затормозила. И вот уже больше двадцати лет недостроенный вокзал пугал прохожих нелюдимым взглядом пустых оконных проемов, а многочисленные пассажиры толпились в зале ожидания временного деревянного строения. Тем не менее, и тут, подле деревянного вокзала, толпились и таксисты, и извозчики. Но здесь, в отличие от Петроградского и Яросавского, возле которых размещались степенные «лихачи», платящие за биржу в городскую управу, у Рязанского стояли «ваньки» и «кашники», кто с «животными» санями, кто с раздолбанными «фордами» и «ганомагами». Меж их рядов гордо расхаживал городовой старшего оклада с тремя гомбочками на витых наплечных шнурах и собирал «халтуру» со стоящих у забора замороженной стройки извозчиков.
— Нет, здесь извозчиков брать не будем, — решительно заявил Нелидов и повел Вольдемара на Каланчевскую улицу. Здесь, у поворота в Орликов переулок со своими санями, запряженными одноглазой киргизкой, стоял одинокий извозчик. Это был старик в армяке, подпоясанном обрывками вылинявшей вожжи, в рыжей овчинной шапке. Стоял он, судя по всему, без почина, и Пчёлкину бросилось в глаза то, что сани имели широкие деревенские полозья без железных подрезов.
— Где ты, дед, такую клячу раздобыл? – обратился к извозчику Вольдемар.
— А разве ж я ее такой брал? – парировал извозчик. – Я её на Конной у Илюшина взял за
сорок довоенных рублей еще в тридцатом году. А глаз она в запрошлую зиму о ветку выколола.
Так, подрядив извозчика, Пчёлкин с Нелидовым отправились на Маросейку.